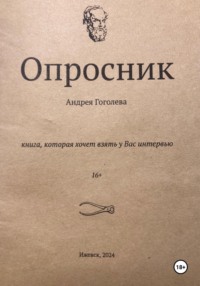Полная версия
Волк пойдет покупать волка
Третьим был Сергей Прабху. Это был “человек-чем-набьют”. О нём мне шёпотом рассказал Ананда перед утренней молитвой. Сергей, как и Тамирмурад, ждал посвящения. Я и без рассказов Ананды увидел по глазам два сидения. Сидел он на строгом режиме, а до того – на героине. У тех, кто сидел на строгом режиме, какие-то особенно светлые и пустые глаза, будто бы цвет из них вытравливают ежедневным битьём, унижениями, внутренним распорядком. В посёлке эти глаза были повсюду: наш посёлок стоял в пересечении медиан треугольника, на вершинах которого располагались исправительные учреждения, два для взрослых, а одно для несовершеннолетних. Если б я увидал Сергея Прабху у себя в посёлке, то посторонился бы, потому что именно этой породы люди зверели без дозы. Часто на рынке грабили они одиноких женщин, срывали с них меховые шапки, а в плохом случае с мясом рвали золотые серьги. Не один раз я видал кровь на снегу, не раз сам бежал в магазин, чтобы вызвать скорую (мобильников тогда было мало). Грабители отбегали к железной дороге, отмывали от добычи кровь снегом и по сугробам бежали в квартиру, где хранили они награбленное. Сбывали не они, а другие. Сергей Прабху почти постоянно молился и стирал вещи вручную, хотя в храме была машинка и работала она исправно. Любил мыть окна и зеркала. Когда читали истории о святых, почти все мы плакали, слёзы стояли даже у сурового Говардхана Прабху (о нём в последнюю очередь), так как с ним у меня сложились особенные отношения, а Сергей Прабху не плакал никогда. Было видно по лицу, что он и хотел было расчувствоваться, чтобы не быть вне этой золотой минуты, в которую четверо-трое-пятеро мужчин без стеснения дают волю слезе. Ясно в такую минуту становится, что она тайная, что никто не будет её припоминать, никто над этой минутой не насмеётся. Эта минута была алтарь, расположенный во времени. Нечего было положить Сергею Прабху на алтарь. Как из меня вытрясла жизнь все деньги, как я растерял их, а новых не приобрёл, так и из него жизнь вышибла слёзы, так он по притонам и карцерам растерял их, а новых у него не образовалось. В один момент я даже начал думать, что выбить из него слезу означало исцелить его, починить. Сергей был пуст и только говорил, положа руку на плечо: “Прикажите мне что-нибудь”. В храме все обращаются друг к другу на вы, даже если кому-то из собеседников мало лет. Кланяться равным нужно в пояс, как и младшим. Старшим же в ноги. “Если не можешь определить на глаз – кланяйся в ноги”, – так сказал мне Ананда. Я кланялся всем в ноги.
Говардхан Прабху, когда прощался со мной навсегда, рассказал историю моей с ним жизни и своей. В момент, когда я объявил, что уезжаю обратно в свой посёлок, оставил половину денег, которые заработал на продаже сим-карт (унизительно, как я тогда полагал), положил деньги на алтарь и поклонился. Говардхан Прабху с подоконника (он своим могучим телом закрывал половину оконного света) сказал очень страшным, серьёзным голосом: “Прабху, я хочу, чтобы Вы меня вни-ма-тель-но послушали”. Из кухни и комнаты выглянули испуганные лица Ананды, Сергея, гостил тогда москвич Дэвадатта, и он выглянул тоже. Божества на алтаре, кажется, тоже были тревожны, кроме одного, Духовного Учителя Бесстрашные Стопы, на фотографии. Этот учитель изображался часто с закрытыми глазами и напоминал выпячиванием своей головы сухопутную черепаху. Я опять почувствовал вращение какого-то механизма тревоги в сердце. Паркет визгнул под шагом Говардхана. Если секунду разрезать на восемь частей, а осьмушку ещё на восемь, такова будет доля, в которую я почувствовал, что и ему страшно, но страх его другой породы. Этой доли хватило, чтобы поджечь фантазию, чтобы встали где-то за лбом образы, как я говорю ему: “Это я Вам должен вот что сказать!”, и высказать ему все упрёки, всё припомнить ему, как заставлял вне очереди мыть полы, как я готовил ночью по его милости, как мыл не только плиту, но и шкаф, который не входил в зону повара, как подавал ему хлеб (который лежал в тридцати сантиметрах от его руки), а когда я ел в те дни, когда я ещё не приносил денег на алтарь, он всегда спрашивал: “Вкусно?”. Но этого я не сделал, а только сказал, что слышать его – большая для меня честь, и поклонился ему в ноги. Он начал с фразы: “Прабху, Вы показались мне выскочкой, негодяем и хамом, который это искусно скрывает!”. Потом он рассказал о той части своей жизни, о которой я знал только слухи и слушки. И он знал, что мне известны только слухи и слушки. Да и впрочем, косвенно было ясно, что он впервые публично докладывает обо всех тех точках жизни, которые их сообществу казались тем, что следует обсудить. Долго не выдавалось уместного момента сказать, и вот, наконец, выдался. Сплетни были запрещены уставом, но насовсем избавиться от них не удавалось. Он рассказал о том, что сын его погиб в первую чеченскую, что его супруга, узнав это, покончила с собой. Рассказал, что в цинковом гробу был плеск, будто хоронили флягу с водой, а не человека. Что был начальником милиции целого района, имел серьёзные награды, но в один момент подал в отставку и встретил праздник святого имени. Чтобы занять мозги прочитал Бхагавад-Гиту, где воину Арджуне не только пришлось смириться со смертью родственников, но и самому убивать их. Тут он ткнул меня шрамовитым мизинцем в грудь, будто показывал, что я его родственник, а он меня убивает. В паузах было слышно только сопение носов, потому что была зима. Рассказал обо мне: как заставлял нести хлеб по одному кусочку, как заставлял дежурить за него, как оставил меня одного со всеми сбережениями храма, чтобы точно знать, не проходимец ли я, как он испытывал меня, но я выдержал все испытания. Попросил прощения за случай с Говиндой.
Имена Говардхана и Говинды похожи, но людей спутать друг с другом никакой возможности не было. Как-то раз Говардхан сказал: “Я отвечаю за безопасность в этой организации!” и отправил меня ночевать к другому повару на Греческий Проспект, в одиннадцать часов вечера, что по храмовым меркам – среди ночи. Я покорился и двинул. Долго меня не оставляло чувство, что идти нужно на вокзал и ночевать там, но для меня так важно стало умываться по утрам, обливаться водой, что я не мог пожертвовать чистотой, по которой за время грязи исскучался. Говинда имел форму тела, как две целующиеся воронки, стоящие одна на другой. Он жил в душном доме на первом этаже, алтарь его был в пыли, а возле клавиатуры с подсвеченными клавишами крупно стояла бутылка водки в виде громадной капли. Говинда щёлкнул по ней глухого щелбана и сказал, чтобы я не удивлялся, так как это всего лишь жидкое состояние страсти. Я поклонился ему в ноги по храмовой привычке. Пыльный палас давно не очищали, под диваном валялся бычок папиросы, осколки стекла, блеснули обрывки фольги. Он спросил меня, не издеваюсь ли я и с ходу обратился ко мне на ты. Стало заметно, как водка оказывает на него своё действие: красная широта лица вокруг неправдоподобно крупных, дирижабельных губ. Возле расправленного дивана стоял деревянный Ганеша, слоноголовый бог с латунными набойками. Было ясно, что божество на починке, на нём были следы ремонтной возни и потёки ПВА. Говинда налил мне водки в стройную рюмку, я отказался. Он указал мне место, где можно было спать: с ним на диване, потому что на полу “о-чень холодно”. За ночь он несколько раз спрашивал, не холодно ли мне. Громадная спина, как вставшее рябое тесто в футболке, подпрыгивала, обрамлённая ноутбучной аурой. Ходили там, где должна быть шея, бусы из священного дерева, то прятались в жировой волне. Островок головы с потными изгибами волос то кивал, то мотался, то бормотал бранные слова, то поворачивался в профиль, чтобы юркая рука уронила в огромный рот голубой свет, обитающий в женственной рюмашке. Раз примерно в пятый или в шестой я отвечал, что мне не холодно. Я старался быть спокойным и никак не реагировать на него: “Подожди, подожди-ка, мне тут одного козла надо урыть!”. Ночь выдалась густая. Я лежал смирно у самой стены, стараясь занимать как можно меньше места. Спал я в подштанниках, как и всегда, потому что старался беречь тепло. Неожиданно, целым Сатурном Говинда повалился на диван, подкатился страшным брюхом ко мне и стал засовывать холодную руку мне под подштанники, говоря перегаристо: “А должно быть хо-о-о-олодно!”. Подштанники трескались, а он шептал мне в самый затылок: “А вот это не надо, не надо…”. Он имел в виду, что сопротивляться не надо. Захрустел под подушкой упакованный презерватив. “А вот это не надо, не надо…” Я выскользнул, и, не чуя тела, схватил слоноликого бога и, сколько было сил у меня, вложил в удар по голове Говинде. Тело его осело, хрюкнуло и захрапело, как сто тракторов. Я сшил резинку (две иглы, черную и белую нитки ношу с собой и по сей день) и лёг на коврик, спиной к стене. Между – поставил Ганешу. После беспокойного сна я сидел на кухне. За окном плевался старик и страшно ругал кого-то, кто не слышал его. Я решил уйти, не прощаясь, только написал Говинде записку, в которой обещал, что никому не расскажу о том, что было. Откуда-то Говардхану было известно о моей ночи с Говиндой, со смехом описывал он божественные шишки, которые оставил я Говинде.
Мучение было и в том, что мне было нужно где-то записывать стихи. В храме писать было запрещено. Можно было писать только деловые бумаги (это разрешалось, хоть и не приветствовалось), можно было писать смс, если это необходимо. Остальное приходилось решать устно. Мечтой становилась работа сторожа в детском саду, но для того, чтобы иметь право что-нибудь сторожить, нужно было отслужить в армии. Всякую свободную минуту я сочинительствовал в уме и запоминал сочинённое наизустно, а потом уже, что помнил, заносил в блокноты, сидя часто в парадной, на лестнице.
Жизнь в храме нельзя предсказать, храм не маршрутка. Я видел в храме драку из-за того, что жертва одного была меньше, но благоприятнее по словам одного из духовных начальников. Принесший большую жертву (денежную) не мог открыто злиться на духовных начальников, поэтому злился на всё и всех. Пнул мой коврик, отлетел он к горшочку со священным деревом. Это было уже сильное оскорбление. Говардхан взял его за краешки одежд (так берут маленьких детей из лужи, если они испытывают лужи) и бросил его из храма прочь, в парадную.
Первая с Говардханом встреча. “А Вы знаете, Прабху, я тоже поэт, вот послушайте: По десятой, по Советской, Кришне едет паровоз, а соседка тётя Клава вызывает ментовоз”. Он выделил слово “ментовоз” паузой перед ним. Приезжал в какой-то день Прахлада. Меня он не признал, хотя я рассчитывал на прибавление своего веса в храмовом обществе, вследствие знакомства с уважаемым (он был очень уважаем) проповедником, которому многие (в их числе и я) отдавали последние деньги, покупали книги. Прибавления не случилось ещё и потому, что я сам старался скрыть свою цель, упомянуться в рассказах о его путешествиях. Он рассказывал с чувством, набегали порой слёзы, куда-то под ресницы, и горячили лицо. Всё смотрел я на Сергея Прабху, не покажется ли слеза на его лице. Буду завидовать Прахладе, если у него удастся вышибить историями слёзы из этих сокрушенных глаз. У Говардхана и теперь, при нашем прощании, были живые глаза, какие не выдавали ему в милиции. На прощание он обнял меня по-медвежьи и сказал: “Вас очень любит Кришна” и почти шепотом, будто не хотел, чтобы это кто-то ещё слышал: “Удачи”. В храме это не простое пожелание, Удача – это одна из жён Кришны, грех её поминать суетно. Было у меня в Петербурге ещё одно дело.
Перед лофтом хвостовалась крепкая говорливая очередина. Только её уличная часть состояла из (на глазок) сотни, и из меня – сто первого. Был приглашен в кирпичные интерьеры – читать стихи. Много ставил я на это выступление, к слову сказать, единственное в пору первого моего Петербурга. Подошёл почти сразу – сто второй. “Вот это-то Олега почерк! Вот это я понимаю, поэзия!” – плеснуло перегаром, потом и дрожжами от его фигуры. Тело его будто состояло из замороженных в корабельном морозильнике физкультурных канатов. Две икринки глаз были защищены прямоугольностью очков, купленных возле метро, а канаты были обёрнуты чем-то похожим на пальто. Поэт. Естественно, бездарный, потому что на моём фоне бездарны все. Сразу поставил я задачу: победить всех своим невероятным, невиданным поэтическим даром. Зря ли я точил слова на вокзалах и площадях, зря ли всё своё существо кинул на зеро, сладчайший кусок нёс искусству, зря ли? Завязался пробовательный разговор, обнюхивание поэтических подхвостий. Я хотел сказать что-нибудь, что вышибет моего собеседника из колеи, чтобы никак он не понял, какой я, что я читаю, что пишу, с кем я соотношусь, что я собой представляю. Сказал ему прямо, что, находясь на Исаакиевской площади, почувствовал запах лошадиного кала, видел два времени, наше и то, в которое Есенин повесился. Я видел его мёртвые ноздри. Мне казалось, что я описываю всё так, что нельзя отвернуться от меня, что слова мои сильны, перед ними должны лечь на землю и внимать им, а если худо внимали, то ждать конца и после молить, бесконечно и низко молить о повторении их. Но собеседник мой попросил у меня сигарету (хотя в своём монологе я упомянул как раз именно, что я не курю), а потом, как бы оправившись, и желая восстановиться в моих глазах как достойный слушатель историй, сказал мне самое глупое, что мог: “Хы, а у тебя ещё машины времени нет?”. Его ответ означал, что то содержание, которое я ему передавал, пока шло до него, превратилось во что-то изменённое до неузнаваемости. Ошеломить невежу нельзя: он пуст, он примет всё, как первое сведение. Олег, названный носителем особого почерка, был организатором поэтических чтений своей студии, называемой “Почувствуйте!”. Фамилия была у него очень редкая для Петербурга – Непитна. Свои же звали его просто – Кириллычем. Стихи у него с рифмами “сцена – мизансцена”. Я читал у него в студии, и чтение это было событием, по которому я хорошо знаю определение слову “провал”. Хорошо знаю потому, что до этого чтения я думал, что провал – это то, что случается на сцене: народ свистит, гнилые помидоры и тухлые яйца тяжко летят в броню пиджака. Думал, провал – это процесс, но провал – могила, которую сам поэт роет, обживает могилу, а потом, на сцене, вокруг него проступает реальность, сырая, со слизнями и одиночеством.
Сто второй как-то быстро сообразил, что очередь, в которой мы стояли – не на поэтические чтения, а на выставку картин, которая проходила в том же лофте, но на другом этаже. Тогда по винтовой лестнице в тесноте, под синими лампадами я пробрался в глубокий зал, где от силы было человек семьдесят, хотя поэтов, объявленных читающими, числилось по списку, висевшему тут же при входе, было девяносто два. Моя фамилия стояла шестьдесят первой. Я сел подальше от других. На сцене стояло сильно отъевшееся кресло в грязно-розовой обивке.
Вышла босая – про любовь – сорвалась на крик. Людный ум её выражался ненастоящей жаждой, волнисто кричала она бесполезно выученное наизусть стихотворение. Всё неживое в помещении могло быть уютным, но крики поэтов травили уют. Волнообразно, но резко падали слова, разбивались, так и не понятые, потому что не было ни у кого желания их понять. А мои? Смогу ли я заворожить их так, что они разнесут обо мне славу? Вот босая поэтесса извизгивает свои половые этюды. Негрозные кулачата оплели микрофоновый жезл. Ничего нет в её словах, они как пустые баки, с которых ещё не насовсем оторжавели надписи “огнеопасно”, на пустом баке такая надпись – честно написанное враньё. Я тасовал в руках свои блокноты и ждал, пока Непитна объявит шестьдесят один. Великая новость. Лавровый дом. Молодой гений. Когда босая дочитала, сразу вышел кудрявый толстяк, похожий на кресло. По оливковым глазам угадывался мальчик из чистенько прибранной квартиры, не в самом центре Петербурга, но где-то около. Босая обулась, накинула цветастую ветровку с рисунком в улиточку и выпорхнула, вместе с компанией, с которой пришла. Освободился круглый столик и скоро я занял его один. Так убывал и убывал народ: уходили поэты, оставляли за собой проплешины пустых столов. Непитна говорил не фамилии, а номера, потому что нужно было экономить время. Иногда пропускать приходилось и шесть номеров подряд. Слушали там стихи как неизбежный шум. Так по шкале раздражения стихи можно было расположить ниже детского вытья в пору прорезывания зубов, ниже песен перфоратора из-за стены, но выше звуков далёкого, но всё-таки слышимого концерта в честь какого-нибудь общероссийского праздника. В перерывах и переходах Непитна похваливал, кого знал ранее, а тех, кого знал не очень хорошо выкармливал горечью критики за наглагольную рифму, за верлибр (заявлял, что это дело гения и только!), за слишком однообразную подачу текста (у вас, к сожалению, текст, а не произведение), за то даже, что поэт не произвёл репост афиши чтений на свою стену. Народу убавилось в половину, незаметно уйти было нельзя, а уйти сейчас означало бы, что я перетрусил, задрожал перед поэтическим иерархом. Метался по сцене пиджак, наполненный телом Непитны, выбухли плетёные в неблагополучных районах кулаки, выбухла розовая плешь, в потном зеркале которой ходили пятна модных светильников. Выступал нервный поэт, издавший сорок книг: “Книж-ка перевёр-тыш!”, он напоминал тех бедолаг, которые толкают в электричках игрушки-вертолёты, батарейки, перчатки, порошок для канализационной ямы, полотенца, которым нет аналогов и прочее. Выступала острая поэтесса, было видно, что по природе она полновата, но теперь вылезли кости: она читала стихи, а с соседнего столика комментировали: “Вкусно написано, вкусно…” Выступал прыгучий человек в широченных штанах, видно, несостоявшийся рэпер. Выступала чёрная дама в меховой накидке, этой даме Непитна делал знаки, по которым ясно, что они знакомы между собою с юности. Эта дама говорила длиннющее предисловие стихам, а потом прочитала бездарнейшее стихотворение про дом с любимым человеком. Непитна возопил: “Браво!”. Выступал длинноволосый белый костюм-тройка “вообще-то я музыкант, но…”. Сто второй вышел со стихами, как сказал он, “политического характера”. Выступала тихоня с круглыми глазами и очень красивым телом. Выступала бабушка, которая называла молодым даже Непитну. Выступал какой-то, по всей видимости, знаменитый поэт, в тёмных круглых очках (вспомнил почему-то, что у нас в посёлке били за тёмные очки в помещении). Выступала некрасивая фанатка Цоя в балахоне с затмением, под гитару. Выступления тянулись, как зубная боль.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.