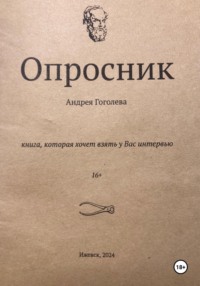Полная версия
Волк пойдет покупать волка
Мне было жаль мою руку. Я поднимал её, но только шелестел рукав, а само мясо её спадало, как падают предметы. Мне было страшно и тоскливо именно от того, что сказали про мать: десять скук выбили из меня настроение. Только утро, а я уж вижу, как погружают тело в большую продуктовую тележку. Они складывали ему за пазуху, в карманы и в рукава куски бетона, пошли топить его в Неве. Несколько раз сматерились в мой адрес. Я сообразил, что должен помочь. Мы шли, пока не прорезался через туман Охтенский мост. Рука моя ожила и заболела, но оживление это не принесло мне радости. Плюхнули тело с парапета, оказалось мелко, куртка его островом поднялась, шли пузыри. Спустились, стали бодать тело той же телегой, которая набирала ил в решето. Тело перевернулось, штаны с сухими пятнами стояли, как баллоны. Человек умер. Но важнее: человек жил, делал шаги, мечтал, был маленьким и хотел кем-то быть. Теперь он – проблема. Я ушел, сел под дерево, где земля была выскоблена уборщиками: твёрдая и холодная.
Раньше я верил в бога. Во всём, что я видел и слышал, я наблюдал его великое и тихое присутствие. Замеченные мной совпадения, как божьи MMS-сообщения, воспитывали во мне новую личность, которая скоро пришла к власти во мне, стала жестоким тираном с такой улыбкой, по которой ясно, что он знает, как лучше. Выросла голова, которая важнее головы. Стихи мои, всегда или часто, находили в себе место этому звуковому выстрелу. Казалось мне, что есть слова, а бог – царь слов; всё, что написано о боге – голова языка. Всё через него начало быть, что начало быть, потому что без бога нет никакой поэзии. Любил я умствовать, разбирать какие-нибудь фразы из Евангелия. Фразы – потому что полностью не читал. Зачем мне читать всё? Да разве в чтении дело? Вы не на то смотрите! Вы упёрлись в Свет, а Свет не видите! Такие слова я говорил внутренним своим спорщикам, которые всегда были глупы. Я всегда их поражал внутри себя, я сиял, посрамив нечестивых. Настоящие же споры, которые шли уж не с внутренними, а внешними личностями, всегда уводили не туда. Всегда дорога выскальзывала из пути, всегда оканчивались эти споры одной точкой, в которой было вот что: “У каждого своё мнение! Ты – при своём, я – при своём!”. Хотя я думал о Евангельских фразах, я не был сторонником православия, не был крещёным. В ту пору, когда я родился, церковь в посёлке была разрушена. Её восстановили в то время, когда уж было не до моего крещения. Всякую мою болезнь и даже сломанную раз на ледяной горке стопу мать считала следствием того, что я не крещён. Отходя ко сну, я боялся ада. Я представлял, что в аду (кто дал мне это представление?) всё повторяется бесконечно и больно. Приснился однажды двойной сон, где я шёл по чёрному лабиринту, в котором будто бы умерли мои родители, и одновременно писал бесконечный диктант у Розалии Мударисовны.
Ещё в посёлок приезжали кришнаиты петь свои песни, напитать восточным звоном серое наше бытьё и обращать в свою веру. Приезжали они лёгкой толпецой, меньше десяти, больше пяти и всегда проходили с песнями мимо дома, где жил я, мимо ларька (было дело, покупал там пиво “Во-брат!”), мимо долгостроя, в котором всегда было черно, безоконно и слепо, мимо разрушенного храма (они кидали цветки в него, а на крест упавшей луковки повесили целую цветочную гирлянду, должно быть, это были знаки уважения к православной конфессии). Шли они до центра нашего посёлка, где стоял алкомаркет “Русь”, магазин “1001 инструмент”, кафе “7Я” и платный туалет. Возле окон кафе они стелили ковёр и, сидя на нём, играли самые мелодичные свои песни. Деньги они называли божественным именем Лакшми и не брали их просто так. Если им давали немного, то они отвечали сладким подарком в виде шарика, похожего на “Рафаэлло”. Если более, то дарили книгу “Бхагавад-Гита (как она есть)”. Эта приписка “как она есть” притянула мой взгляд. Стало быть, есть какие-то ложные Бхагавад-Гиты, а здесь мне предлагают истинную. “Хотите почитать?”. Я отстранился. Белые их одежды по низам были в нашей поселковой грязи. “Я читаю только стихи”. Мне показалось, что это стопроцентные мошенники, потому что так не бывает. Ответ мне был: “Это – стихи”. Мой кришнаит раскрыл цветастый том на странице, где действительно было много написано в столбик. Звали моего кришнаита Прахлада Дас. Я почему-то знал, что мы с ним ещё увидимся.
Спускаюсь по эскалатору, проплывает мимо меня усатое лицо Андрея Борисовича с многоёмкой улыбкой. Улыбка и облик вокруг неё населили собою рекламовый плоский фонарь. Агентство знакомств Андрея Борисовича работает с 1993 года – более тысячи успешных браков. Новинка – открылся отдел работы с ВИП. Впереди меня, на лесенку ниже, стоит человек со светоотражающим кругом на чёрнокурточной спине. Он вертит в руке фиолетовое тельце телефона. На подъём плывут двое глухонемых и усиленно жестикулируют. Я знаю только слово “Пятигорск” на языке глухонемых. Нужно сделать из двух рук пистолеты и нацелить их друг против друга возле центра груди. Нужно поехать на Удельную, именно в подземный вестибюль, а не на знаменитый рынок. Вестибюль Удельной произвёл на меня страшное впечатление, когда я увидел его впервые. Кто же выдумал сделать скамейки в виде чёрных гробов на чёрных подставках? Связано ли это с тем, что в семнадцатом году с Удельной (которая на поверхности) Ленин уехал в Финляндию, хороня на время революцию? Бог весть. Сидя на гробовой скамейке, я, в бездомную свою пору, впервые в жизни убивал влюблённость. Так сошлось, что на вокзале принимали какого-то посла и всех бродяг неделю оттесняли на улицу без разговоров: бомжей в городе как бы нет. Ходили даже военные. Ночевать было нужно идти на Ладожский или куда-то ещё. Денег и жетонов тоже не было. Я двинул дворами, может быть, мне удастся просочиться в подъезд с открытым чердаком? Маршрут я построил через благотворительный магазин, в котором почти всегда требовались волонтёры, а за это волонтёрам предлагались сладости и очень вкусный чай. В тот раз я узнал, почему этот чай так вкусен и кто его туда носит. Магазин в то утро страшно затопило, волонтёров не было, начальница была в отпуске, продавщица Настя осталась одна, и мой приход её очень и очень обрадовал. Она работала чайным мастером, а здесь только подрабатывала. День состоял из выкрадывания воды из подвальчика. Я брал тряпку, набирал в неё сколько можно воды и выжимал её за окно, ведущее из подвала на двор. То же, только с другой стороны помещения делала и Настя. Ночевать я остался там же. Мы долго разговаривали за чаем. Это были короткие часы покоя. Скоро мы погасили свет, оставили свечи, которые тянули шаткое пламя к выгнутому потолочному небу. Спали на куче поваленных на поддоны пальто. Моя рука случайно коснулась её руки. Я знал, что она лежит с открытыми глазами, смотрит голубыми глазами в этот изогнутый потолок, на котором беспокойно живут свечные тени. Сокрушительная сила повлекла сжать нежно её ладонь: она не отстранилась. Я понял, что с этой минуты я влюблён в эту чайную Настю, понял, что буду теперь сладко тяготиться своим чувством. Я закрыл глаза и увидел плывущие квадраты, звёзды и серпы. Все фигуры ломались, собирались в новые, более сложные, вертелись верблюды, встало окно с крестовиной перегородок, стали проступать комнаты, а в комнатах зашевелились люди, сидели за столом, указывали друг на друга и советовали что-то насчёт денег, а я всё хотел услышать, что же там насчёт денег, но мешало то, что кто-то тут же носил доски, сундуки, в которых почему-то пела какая-то рухлядь. Я понимал, что это сон и что в моей руке теперь Настина рука, и это важнее всего на свете. Заныл будильник, который означал, что нужно выливать воду из ведра, которое успело наполниться. Настя спала. Свечка осталась только одна. Рядом лежала незажжённая спичка, которую Настя при разговоре купала в парафине и теперь красивая синяя капля обнимает серу. Я взял эту спичку себе на память и положил туда, где лежат у меня швейные принадлежности, два моточка ниток, белых и чёрных, и две иглы. Хранилось у меня это всё в спичечном коробке с надписью “Берегите лес от пожара!”. Ещё раз я просыпался выливать ведро, а потом решил уйти. Насте я оставил записку, которую я сейчас не хотел бы прочесть. Там было стихотворение и, кажется, благодарность, за подаренную карточку “Подорожник”, где были поездки. Тогда-то я и поехал на Удельную, где сидел у чёрного гроба, и положил себе не вставать от него до тех пор, пока не убью в себе эту влюблённость. Сначала я отнимал от ста по семь. Если я смогу дойти до числа меньше семи, ни разу не вспомнив её, то дело считается совершенным. Если с сотней так не получилось, то к сотне прибавлялось число сто один, и уж из результата этой суммы нужно было вычитать по семь, ни разу не вспомнив огромных её глаз, лент в её дредах, холода её небольшой ладони. Тысяча сто пятьдесят пять минус семь равно тысяча сто сорок восемь. Тысяча сто сорок один. Много подземных часов я измучивал себя до тех пор, пока не дошел до вычитания семёрки из самой себя.
Что за великая ценность мгновения! Есть исфразие: испустить дух. Всякий сносно говорящий на русском языке знает, что означают эти слова: умереть, вот что. Вот и я тогда изобрёл подобное, но против подобия, исфразие: испустить плоть. Здесь, конечно, будут догадки, но поясню, чтобы толковалось оно без разночтений: означает это исфразие только семяизвержение или, как говорят в народе, эякуляцию. Против подобия ясно почему испустить дух означает конец, после которого дление времени смерти. А после эякуляции возможно и дление чьей-либо жизни. Я подозревал в себе желания, а ум прятал от меня хвосты мыслей, заметал следы, бросал клочки сонного дыма повсюду. Что сначала: хотел я впиваться в её тело или мне была интересна душа? Так я думал, потому что полагал, будто у круга есть где-то начало, что душа и тело не условные части одного процесса, называемого человек.
После встречи с кришнаитами я рассказывал своему другу Петрову, что говорил с Прахладой, что они несколько раз спросили меня, точно ли я не из преданных. (Так они называли самих себя). Я тонко и тщетно славился перед другом: гляди, какой я! Посмотри-ка на мою духовную высоту и впечатлись. Да уж! Теперь-то я о карме кое-что знаю.
Оставил Прахладе всё, кроме одного рубля, взял книгу. Под шубой религиозного успокоения и религиозного страха стало очень удобно думать, что я гений. Притом у гения этого теперь была святость и всеведенье пророка. Трясся в поселковом автобусе ЛИАЗ. У этого автобуса травоядно разведены круглые фары, почти по бокам. Зимой у этих автобусов на решетке радиатора нарастает кусок линолеума, а летом решетку снимают вовсе, становится видимым ременный механизм. Морозило тогда до древесного треска. Мужик в шапке с надписью Opel поднимал дутые плечи, вертел джинсовыми ногами будто диагонально сломленной рамой от картины, губы его так замёрзли, что мат, который через них хотел выбраться, падал простым звуком [c] или рождался мертво, без звука. Автобусы эти прогревались только слева, справа обогревателей не было из-за дверей. Опель пробрался к левому креслу, снял ботинок и стал мычать от удовольствия. Носок его сполз так, что часть носка, не наполненная ногой, свисала и колыхалась; две нити торчали из этого носка, он был одет наизнанку. Мне хотелось тоже снять ботинки, даже хотелось положить и собственные носки на горячий калорифер, который аккуратно проходил над колёсной аркой, но я повторял себе твёрдо, как мог: я не тело – я душа, я не тело – я душа. Из всего индуистского учения я понял главное: я – лучший. То, что я лучший, было легко доказать, опираясь на источник и комментарий к нему. Главное, внутри себя правильно прокомментировать комментарий, и будет твёрдое ощущение святости или непосредственной близости к святости. Я видел, что, не сняв ботинка, я победил тело, а Опель тела своего не победил. Он обитает в невежестве, он к своему невежеству присосан, а я никогда себе не позволю так мычать, так греть ноги. Меня не обмануть иллюзией! Я вижу душой!
Была слепая зима, она чувствовала себя так, будто не было других времён года. В посёлке часто умирали от переохлаждения: выпил, ушёл, заснул в сугробе. Возле школы так замёрз отец моего одноклассника. В первом своём Петербурге я часто вспоминал этот случай. Макс был задира, бил меня ногой под колено так, чтоб опора моя согнулась, а далее он вознаграждал меня пинком, мелкозубо вскрикивая: “Волшебный пендэль!”. Так он делал со всеми, кто слабее его, и я втайне радовался, когда видел, как кто-то из старшеклассников жмёт его в углу, прижигает ему руку угольком от сигареты, выдыхает дым ему в лицо, говорит о нём матерные слова и грозит совершить над ним ряд надругательств, некоторые из которых я находил очень изобретательными. Мы жили в двух соседних деревянных домах, которые было принято называть бараками. Путь до школы преодолевали вместе. Тропинки с утра были одноногие и идти рядом было нельзя, только друг за другом. Макс всегда толкал меня и говорил, что он должен быть впереди. Куртка его была расстёгнута до половины, под ней была рубашка с поднятым воротником.
По пути было место, междомовая кишка, где стоял лёд, а вдоль льда всегда дул ветер. В снегопадные ночи наметало во взрослый рост. В том месте мне всегда приходили грустные мысли, потому что после прохода становилась видимой ядовитая стена школы с беспощадными окнами-палачами. Издали ещё слышно, как стонут закрытые на висячий замок ворота для проезда автомобилей, в петлях этих ворот были, видимо, какие-то дыры, проржавевшие до самого ада. Оттуда и шёл этот стон. “Мир знаний ждёт тебя”. Возле прохода мы увидели две ноги, овалами вытащенными из сугроба. Макс обрадовался, он не сразу понял, что это его отец, он даже не сразу понял, что это труп. Он скинул портфель с надписью “Король Лев”, объявил, что всё найденное в карманах у мертвеца (он приговаривал: хоть бы сдох, хоть бы сдох!), чтобы я не претендовал на имущество, Макс прислонил мне к переносице дерматиновый свой кулак. Возражений я не имел, он остался рыть и всё приговаривал и приговаривал. Не забыл я и картину: маргацовочного цвета лицо Макса, слёзы и комки на перчатках, а на лысом отце его кожа, на которой не тает снег. Как я обрадовался, что отец его умер, да ещё так позорно! Одна часть меня склонялась к тому, чтоб соболезнавать и, как можно, поддержать его в первую, самую злую минуту горя. Но другая часть хотела жадно пить месть за все обиды, хотела отыскать самое болючее слово, хотела именно раздавить его слабого, ведь теперь именно он не может крепиться, как будет сладко давить его, немощного. Часть, которая хотела мщения победила. Я сказал ему только два слова, которые, уверен, глодали его память не один год, а может, болит его память и до сегодня: “Твоё будущее”. Макс смотрел на меня, тёр себе кулаком лицо, и мне показалось, что он не понял. Я повторил слова, указывая на мертвеца: “Твоё бу-ду-ще-е!”. Макс побежал за мной, но я знал, что не догонит: “Как бы не ушёл без тебя па-па-ша!”, и ещё добавил: “Не забудь по карманчикам пошмонать!”. Как легко стало от этой минуты мщения. Горячо полыхало превосходство. Да! Все унижения, все плевки, пинки, все оскорбления, которые он, как сеятель, бросал в почву человечьих рассудков, взошли могучим сорняком и зашибли его самого. Удовольствие пело во мне свою богатую песню. Тогда, в ЛИАЗе я вспомнил это удовольствие; это удовольствие ставшего выше других не за счёт своего роста, а за счёт мысленного усечения других. В минуты, когда замерзал я сам, часто припоминал я слова “твоё будущее”. Одна медсестра рассказывала мне, что мозг умирающего человека так устроен, что может выдавать восприятию бесконечный ад. Для наблюдателя пройдут секунды, но там, за умирающими глазами медленно шагают тысячелетия жестоких повторов. От этого и безумие агонии.
Интерес к Кришне вспыхнул и угас. Связи с Прахладой я не установил, хотя был у меня номер его ICQ. Вспомнил я о Кришне вот здесь, на проспекте Просвещения. Хотел заночевать у панка-охранника детского сада номер сто двадцать пять, с которым созвонился, но батарея телефона села, а зарядить было негде. В Евросети сказали, что со своим устройством услуга зарядки стоит пятьдесят рублей. Всего в жизни у меня оставалось семьдесят рублей. Оставил я телефон в Евросети, уже прикидывая, что не дозвонюсь до панка, что придётся мне идти на вокзал пешком. Припоминал я, что уж однажды ходил именно с Просвещения (петербуржцы именуют его Просвет) на Московский вокзал и, по моим прикидкам, с учётом всех кривизн и заблудок, вышло что-то возле двадцати километров. Пять часов ходьбы голодного человека по снежному тесту вдоль и поперёк ветра. Уже внутренне я готовился к такому пути опять, уже строил карту до Озерков по всему проспекту Энгельса, как по Ланскому шоссе доберусь до Чёрной Речки, взойду на Каменный остров и сойду с него, как пойду без поворотов через Петроградскую сторону, выйду на Троицкий, а там уже нельзя заплутать, там всюду висят туристические карты, и без карт видны головы приметных соборов. Но пока я был на Просвещения и услыхал знакомые мне латунные взмётывания звуков, глухие слоги барабанов (та-ке-та-ге-ге! та-ке-та-ге-ге!) – я хотел есть, я знал, что дадут сладость. Три лжи мне помогли исправить положение бездомного, три лжи и одно счастливое совпадение. Кришнаитам нужен был повар на постоянной основе. Документов и санитарных заключений не требовалось, так как работа не предполагала денег, но жильё предполагала. Я солгал, что не ем мясо, рыбу, яйца и грибы: я ел всё, что было доступно мне, порой и объедки шавермы. Я солгал, что учился в ПТУ на повара. Я, наконец, солгал, что верю в Кришну, а в доказательство своей лжи прочитал на санскрите наизусть довольно большой кусок из Бхагавад-Гиты. Учил я его для себя, а не для бога. Горячий звуковой строй санскрита мне нравился очень. Я прочитал важную часть, которая кончалась фразой, перевод которой: “оставь все виды долга и просто предайся Мне, и я освобожу тебя от уз материального мира”. Вокруг меня полумесяцем собрались белоодеждные мужчины. Один, великан с самоваровым брюхом, зачем-то обнял меня. По глазам видел, что они не смогут повторить. Мне дали адрес, так я стал поваром в храме Кришны.
Проспект просвещения! Здесь где-то меж Композиторов и Хошимина в многоэтажном дому выдали мне кофту из белой шерсти, чистую кофту. Как спасала она моё тепло! Изо всех канав выдувает воду прямо под куртку. Выдала мне тонкорукая женщина, без слов. На подъездном свету кофта мерцала по бокам волосьями. На мозговой сковородке обжаривал я какое-то пятибуквенное горькое слово и всё переворачивал его, чтобы написать стихотворение: голод, город, холод. Я ненавидел голод и город, причину этого голода. Был ещё и холод людской и холод погоды, но тогда поднялся я пешком на последний этаж, надел кофту и примирился с отечеством. С пожарного худого балконца видно мелкооконные зазубрины горизонта – за домами ещё дома, жильё и жильё в несколько горизонтов, и всё же мне нет жилья. Тогда был синицын день: бледное, но сильное скандинавское солнце со всей отчётливостью гнуло тени, грязь казалась самым чистым, что есть, потому что грязь сияла и текла: она была сверху крупная, торфяная и снизу мелким песком. Надписи “ипотека плюс паркинг” так отвратительно настоящи, так обидно-действительны, так похожи на матерный посыл города в свой же собственный адрес, что хотелось обратно в туман, в жёлто-серый обморок, в бензинно-кофейные тени. Тепло кофты постепенно высасывало из меня ужас, но насовсем он не проходил, да и желудок молился.
Храм! Грядки Советских улиц (переименованных Рождественских), первая Советская, вторая Советская, одиннадцатая Советская. Удивительно медленный, гробовидный, почти треугольный лифт, противовес за тысячами паутинных бород на сетке. Квартира номер шесть на этаже между третьим и четвёртым. Помещения будто бы были рассчитаны на трёхметровых людей: две янтарные комнаты и кухня, которая чиста настолько, что казалась выжженной. Из стрельчатого окна видны тросы, натянутые между домами, прямо над серединой улицы гнездо фонаря. Спали на голубых ковриках-пенках, которые стелили на паркет. Какое счастье было держать эту пенку и две простыни, как держат младенца. Тогда я поспал добрым сном, впервые за холод. Бог (так я думал) дал мне этот густой, как слезающий с высоты пламени воск, сон. Слёзы встали на выходе у меня из глаз. Кроме меня жили постоянно ещё четверо, и ещё приходили иногда другие, без числа. Приходил и Прахлада, но о встрече с ним – позже. Итак, четверо.
Ананда Прабху. Держал подпольное казино на Думской. Работал крупье, было время, в Минске. Потом двинул на севера. Роста был узлистого, короткая желтизна волос как тонкие пламена торчали ровно вверх. Ниже колен ноги его были неотличимы от женских. Родом он был из Дудинки, где, по его словам, все пьют, а более способов жизни там нет. Он кидал данные о своей жизни по частям, легко, но этих частей хватило, чтобы понять: мы, кажется, из одного посёлка. Королевство сайдинга и балансировки колёс. Трудолюбие и ухватистость (всё пляшет) выдавали долгие мясокапустные руки. Руки его можно было выставить в палату мер и весов, от них и отсчитывать нормальность мужских рук европеоида. Таков был Ананда: голубоглазый, но как позже выяснилось, тайный поклонник рэпа, о котором не знало религиозное начальство. Зато религиозное начальство знало о тёмной промышленности Ананды, но смотрело на это без злобы и без добра в голубые его глаза. Ананда через такое обращение не чуял вины за собой. Впрочем, и заслугами не был горд. Через него святые божества имели алтарь в самом центре Петербурга, а не в Колпино и не на Фарфоровской. Наши коврики были рядом. “Ананда, как Вы думаете, что будет после смерти?” – так я спросил, когда увидел, что он не спит. “Каждому человеку отведено определённое Кришной количество дыханий, количество времени. Если человек нарабатывает плохую карму, то, прежде чем переродиться, он должен оставаться на земле до тех пор, пока его время не выйдет. Только оставаться он будет без тела. Будет скитаться по тем местам, к которым у него есть привязанность. Он не сможет спать и есть, будет мыкаться, пока время не выйдет. Спокойной ночи!”
Тамирмурад Прабху. Духовного имени, как Ананда, не имел. В миру Ананда был Саша, а Тамирмурад в миру был Тамирмурад. Шутил про себя: я – стремящийся. Говорил со страшной скоростью. Казалось, что он переходил на родной татарский, но потом, как бы по следу от фразы, мозг угадывал русские корни, приставки и окончания. Он часто уезжал, коврик его оставался ждать возле печки. После долгих и тёмных лет, проведённых на заводе КамАЗ, он стал перегонять Опели, Фольцвагены и Мерседесы из Германии в Россию через какие-то особенные морские пути. Тамирмурад любил украшения и носил золотую цепь вместе с бусами из священного дерева Туласи. Каждый знал, что в это дерево превратилась девушка, которая любила Кришну. Она поклялась стоять на одной ноге, пока он не примет её в качестве жены. Так она, в образе дерева стала одной из ста восьми его Вечных Жён. Тамирмурад носил и печатки, всё было из золота. Костяшки на руках его имели следы неизвестных нам противостояний. Ананда и Тамирмурад составляли финансовую мощь храма. На алтаре порой складывались Уральские горы синих тысяч. Ананда красиво раскладывал их перед божествами, разглаживал уголки. В один момент скопилось, навскидку, сто тысяч – так много, что деньги, чтобы не закрывали они божеств, лежали на полу. В мои обязанности, среди прочего, входило и мытьё полов. В тот день я должен был коснуться денег. Мне показалось, что какое-то из божеств шевельнулось, а боковым зрением я увидел, будто одно мне подмигнуло. Глянул прямо и они, наоборот, показались мне ослепшими. Никого не было в храме. Должен был уйти и я, захлопнув дверь с английским замком, ключей мне не выдали. Могу украсть и скрыться – они обо мне вообще ничего не знают. Даже фамилии моей никто не спросил! То, что здесь стоит ведро и сохнет тряпка, даёт мне оправдание в случае, если кто-нибудь зайдёт сию минуту и увидит, что я собираю деньги. Я мог честно сказать, что деньги я трогаю потому, что их положил на пол Ананда, а если это будет сам Ананда, то и объяснять ничего не нужно. Это давало мне возможность безопасного отступления. Но что же делать, если встреча будет не в передней (прихожей это нельзя назвать никак), а в парадной? Ехать на лифте (ждать долго, риск застрять) или бежать вниз по лестнице (тоже долго, она вьётся)? Что делать, если я буду обнаружен в тот момент, когда буду надевать ботинки, кофту и куртку? Можно выбросить пакет с одеждой и ботинками в окно, на двор, выйти не парадным, а чёрным ходом. Только бы он был открыт! Тут же у окна убедился, что чёрный ход открыт: из него выносили стиральную машинку двое смуглых таджиков с лицами, как у ящерок. Значит, я могу бросить пакет. Но тогда именно момент бросания пакета будет водоразделом: обратного пути не будет. Мне нужно будет напрячь слух, чтобы слышать, идёт ли кто по лестнице. Дождаться пока противовес будет внизу, а лифт наверху. Наши часто возят продукты – тяжесть – пешком не пойдут. Я отыскал пакет, перекинул через форточку одежду и обувь, встал перед алтарём. Сердце моё билось, как будто в нём вращалось что-то тяжёлое, прикреплённое к оси не ровно, а косо. Бегали по голове мысли, как пленные, которым приказали бегать только от того, что так веселее по ним стрелять. Я ничего не взял, но побежал в носках вниз по лестнице. Почтенная дверь громыхнула. За ней остались моя сумка с документами и пожитками. Такие случаи со мной бывали не единожды и не дважды.