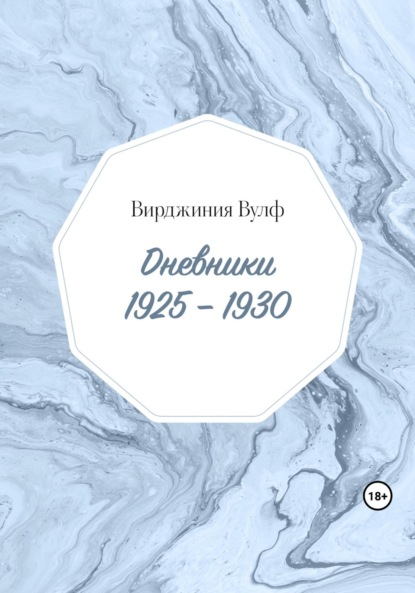Полная версия
Дневники: 1931–1935
65
Барбара Хатчинсон (1911–1989) – единственная дочь Мэри и Сент-Джона Хатчинсона.
66
Джулиан Хьюард Белл (1908–1937) – английский поэт, сын Клайва и Ванессы Белл, погибший во время гражданской войны в Испании. В 1930 году Кингс-колледж Кембриджа выделил ему стипендию для написания диссертации о Поупе, в том же году Джулиан выпустил свой первый сборник стихов «Движение зимы».
67
Маргарет Элизабет Хилд Дженкинс (1905–2010) – известная английская писательница; выпускница Ньюнэм-колледжа Кембриджа. Барбара и Джулиан ужинали с Вулфами в ресторане «Ivy» 13 марта, а Элизабет Дженкинс присоединилась к ним позже.
68
Александр Поуп (1688–1744) – английский поэт эпохи классицизма.
69
Энн Стивен (1916–1997) – старшая из двух дочерей Адриана и Карин.
70
Джоан Седар («Тоби») Хендерсон (1916–?) – дочь редактора N&A Хьюберта Хендерсона.
71
Комическая опера Томаса Фредерика Данхилла. 27 марта 1931 года Вулфы взяли с собой Энн Стивен и Тоби Хендерсон в Лирический театр (Хаммерсмит) на постановку оперы.
72
На обороте страницы ВВ скопировала отрывок из письма Китса к Бенджамину Роберту Хейдону от 22 декабря 1818 года:«Величие в тени мне по душе больше, чем выставляемое напоказ» (в пер. С.Л. Сухарева).
73
Евгения (1826–1920) – последняя императрица Франции, супруга Наполеона III. Семья Смит соседствовала с императрицей, когда та жила в Фарнборо-хилл (сейчас в этом хэмпширском здании находится римско-католическая частная школа для девочек), и она, несомненно, оказала влияние на Этель Смит (см. ее книгу «Линии жизни»).
74
В пер. с фр.: «деклассированный» (пониженный в социальном статусе).
75
Мод (Эмеральд) Кунард, урожденная Бёрк (1872–1948), – американка, вдова богатого английского баронета Баха Кунарда и мать Нэнси Кунард. Ее приглашения подразумевали признание социального, интеллектуального и художественного успеха.
76
Кристабель (Крисси) Мэри Мелвилл Макнатен (1890–1974) – меценатка, жена 2-го барона Аберконуэя.
77
Энн Макларен (1927–2007) – известный английский генетик, 4-й ребенок Кристабель Макнатен и Генри Макларена. Нет никакой информации о том, что ее отец – кто-то другой.
78
Вулфы были на ужине у Клайва Белла 18 марта.
79
Чарльз Отто Дезмонд Маккарти (1877–1952) – писатель и выдающийся литературный критик своего времени. Друзья ожидали, что он станет великим писателем, но его природным даром были разговоры. Он знал семью Стивен еще до смерти сэра Лесли, а в 1906 году Вирджиния была на его свадьбе.
80
Бенита Элеонора Армстронг, урожденная Ягер (1907–2004), – английская скульпторша, состоявшая в отношениях с Клайвом Беллом.
81
Чарльз Рэймонд Белл Мортимер (1895–1980) – писатель, литературный редактор и критик. Он был другом Виты Сэквилл-Уэст и много лет состоял в отношениях с ее мужем, Гарольдом Николсоном.
82
Лорд Эдвард Кристиан Дэвид Гаскойн-Сесил (1902–1986) – выпускник Оксфорда, историк и академик; младший сын 4-го маркиза Солсбери и племянник друзей ВВ, лорда Роберта и леди Нелли Сесил. ВВ познакомилась с ним в Гарсингтоне в 1923 году.
83
Сэр Брюс Литтелтон Ричмонд (1871–1964) – журналист, редактор ЛПТ с его основания в 1902 году и до выхода на пенсию 35 лет спустя, самый верный покровитель ВВ. В 1913 году Брюс женился на Елене Рэтбоун, и с тех пор они жили в Кенсингтоне. ВВ ходила к ним на чай, а потом ЛВ забрал ее и повез на семейный ужин с матерью, сестрой и братом.
84
Эта дневниковая запись не датирована, но именно 25 марта ВВ обедала с Клайвом Беллом и Т.С. Элиотом.«Волками» она называла Вулфов, семью Леонарда.
85
Гарольд Джордж Николсон (1886–1968) – английский дипломат, политик, историк; муж Виты Сэквилл-Уэст. У них был открытый брак и однополые романы. 20 марта ВВ была в доках в компании ЛВ, Виты, Гарольда и персидского посла; свои впечатления она описала в статье «Лондонские доки» для журнала «Good Housekeeping».
86
Арнольд Беннетт (1867–1931) – писатель, журналист и драматург, литературный критик. Беннетт умер в своей квартире на Бейкер-стрит 27 марта от брюшного тифа, которым он заразился, выпив водопроводной воды в Париже на Новый год. Последний раз ВВ виделась с ним 1 декабря на званом ужине у Этель Сэндс (см. ВВ-Д-III, 2 декабря 1930 г.).
87
В своем эссе об Эдмунде Госсе, опубликованном в июньском номере «Fortnightly Review» 1931 года, ВВ отмечает неподдельную прямоту и искренность Беннетта по отношению к другим писателям и выгодно противопоставляет это самомнению Госса.
88
Деревня в Хэмпшире.
89
Беатриса (1858–1943) и ее муж Сидни Джеймс Вебб (1859–1947) – социальные реформаторы, столпы Фабианского общества, основатели Лондонской школы экономики и еженедельника «New Statesman».
90
Помимо лондонских статей для «Good Housekeeping» и эссе о Госсе для «Fortnightly Review», ВВ в это время написала еще две работы: «Критика Локхарта» (вышла в ЛПТ от 23 апреля 1931 года) и «Аврора Лей» (вышла в июньском номере «Yale Review» 1931 года).
91
Блик-хаус, или, как ВВ называет его в других местах,«ужас Хэнкока», был построен на вершине холма над Родмеллом для Ф.Р. Хэнкока, кандидата от лейбористов в избирательном округе Льюиса на всеобщих выборах в 1931 и 1935 годах.
92
Джоан Пернель Стрэйчи (1876–1951) – четвертая из пяти сестер Литтона, языковед, преподавательница французского языка, директриса Ньюнэм-колледжа Кембриджа.
93
Фрэнк Лоуренс («Питер») Лукас (1894–1967) – английский антиковед, выпускник Тринити-колледжа Кембриджа, член общества «Апостолов», литературовед, поэт, писатель, драматург, политический полемист. Его обучение в бакалавриате было прервано четырехлетней службой в армии, но по окончании учебы в 1920 году он получил должность в Кингс-колледже. В феврале 1921 года он женился на писательнице Э.Б.К. Джонс.
94
Изабель Вайолет Хант (1862–1942) – английская писательница-феминистка. Ее сенсационная и недостоверная с точки зрения фактов книга «Жена Россетти, ее жизнь и смерть» рассматривалась для публикации в «Hogarth Press», но была отклонена и вышла в издательстве «John Lane» в 1932 году.
95
Элизабет Элеонор Сиддал (1829–1862) – английская натурщица, поэтесса и художница; жена известного поэта и художника Данте Габриэля Россетти.
96
Шейла Мэйбл Стоуни Клаттон-Брок (1903–1936) – выпускница Ньюнэм-колледжа Кембриджа и жена художника Алана Клаттон-Брока. Примерно в 1929 году Питер Лукас разошелся со своей женой и в 1931 году был влюблен в Шейлу.
97
Главный герой цикла романов французского писателя Альфонса Доде (1840–1897).
98
Вулфы ужинали в отеле «Bridge», где в 1848 году король Луи Филипп I провел свою первую ночь в изгнании, бежав из Франции в ходе революции 1848 года.
99
Фредегонда Сесили Шоув (1889–1949) – английская поэтесса, дочь кузины ВВ Флоренс Фишер и историка Ф.У. Мейтланда, биографа Лесли Стивена – отца ВВ.
100
Здесь и далее в тексте путевого дневника перечисляются города и коммуны Франции.
101
Эдит Ситуэлл (1887–1964) – дочь эксцентричного сэра Джорджа Ситуэлла, писателя и консервативного политика, аристократка, поэтесса и редактор «Wheels» – ежегодной антологии анти-георгианской поэзии. Эдит гордилась своей анжуйской кровью.
102
В аббатстве Фонтевро, основанном в XI веке и превращенном Наполеоном в тюрьму в 1804 году, располагались религиозные общины (во главе с аббатисами) монахов и монахинь, в основном из аристократических семей. В романской церкви находятся восемь королевских гробниц Плантагенетов (королевская династия французского происхождения), в том числе Генриха II и Ричарда I.
103
Или игра в шары – собирательное название для широкого круга игр, похожих на боулинг.
104
Третий роман Дэвида Герберта Лоуренса.
105
В пер. с фр.: «что, если я уйду».
106
Мишель де Монтень (1533–1592) – французский писатель и философ. В четверг 23 апреля Вулфы посетили замок Сен-Мишель-де-Монтень, место рождения писателя, к которому ЛВ питал особо почтение как к первому цивилизованному человеку. Замок был полностью уничтожен пожаром в 1885 году и заменен современным зданием, но круглая башня, которую Монтень использовал в качестве своего убежища, сохранилась.
107
Брошюра Т.С. Элиота «Мысли после Ламбета» была опубликована в марте 1931 года.
108
Карл I (1600–1649) – король Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 года.
109
Эдвард Макнайт Кауффер (1890–1954) – американский художник и графический дизайнер, проживший большую часть своей жизни в Англии.
110
Неизвестно, что имеет в виду ВВ.
111
Город и гражданский приход в Западном Девоне. Во время школьных каникул Ванесса повезла свою дочь Анжелику и ее подругу в Корнуолл.
112
Французский финансовый конгломерат.
113
Возможно, имеются в виду рисунки с небольшими изменениями на каждом листе, которые при быстром перелистывании создают эффект анимации.
114
Отель на Хай-стрит в центре Льюиса.
115
Жанна д’Арк (около 1412–1431) – национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. В большом зале замка Шинон 9 марта 1429 года Жанна д’Арк узнала Карла VII, скрывавшегося среди придворных.
116
В пер. с фр.: «красная луна». Имеется в виду лунный месяц, наступающий после Пасхи и часто сопровождающийся заморозками и холодными ветрами, из-за чего молодые побеги покрываются льдом. Слова «красный» и «русский» звучат на французском очень похоже.
117
Вулфы останавливались в этом месте в апреле 1928 года на обратном пути из Кассиса.
118
Клара Вулф (1885–1934) – вторая из трех сестер ЛВ.
119
Ресторан в коммуне Тийер-сюр-Авр, вероятно порекомендованный Кларой Вулф.
120
Здесь и далее суммы указаны в фунтах (£), шиллингах (ш) и пенсах (п).
121
Загородный чайный магазин в Сассексе.
122
Перси Бартоломью – садовник Вулфов с 1928 года. Прах Вирджинии и Леонарда захоронен в саду Монкс-хауса.
123
Город в графстве Уорикшир.
124
Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) – один из ключевых английских писателей начала XX века. Его наиболее известный роман «Любовник леди Чаттерлей» вышел летом 1928 года во Флоренции и был долгое время запрещен в Англии из-за непристойности.
125
Сестра Этель Смит, миссис Чарльз Хантер (см. 4 апреля 1931 г.), разорившись из-за своего чрезмерно щедрого гостеприимства и покровительства художникам и музыкантам, была вынуждена продать свои картины и мебель. 8 мая Вулфы отправились посмотреть содержимое ее дома на Глостер-сквер, 2, а 14 мая – на распродажу.
126
Район Западного Лондона.
127
Лондонский джентельменский клуб, существовавший в 1894–1981 гг.
128
Старейший лондонский джентельменский клуб, основанный в 1693 году.
129
Джайлс Литтон Стрэйчи (1880–1932) – писатель, биограф и литературный критик. После смерти брата ВВ (Тоби) в 1906 году он стал ее близким другом, а в 1909 году недолго раздумывал над тем, чтобы жениться на ней. Сборник Литтона «Портреты в миниатюре и другие эссе» вышел в мае 1931 года.
130
Макс Бирбом (1872–1956) – английский писатель, художник-карикатурист, книжный иллюстратор. См. письмо Макса Бирбома, процитированное Дэвидом Сесилом в книге «Макс: биография»:«Мои таланты невелики. Я пользовался ими умело и сдержанно, никогда не напрягаясь, и… создал себе небольшую очаровательную репутацию».
131
Логан Пирсолл Смит (1865–1946) – английский эссеист и критик американского происхождения, выпускник Гарварда и Оксфорда, известный своими афоризмами и эпиграммами. Его книга «Послесловие» вышла в мае 1931 года.
132
Книга Дезмонда Маккарти «Портреты», первая в серии его сборников эссе и публицистики, была опубликована издательством «Putnam» в ноябре 1931 года.
133
Изабель Вайолет Хант (см. 11 апреля 1931 г.) в течение нескольких лет (с 1911 года) жила с писателем Фордом Германом Хюффером (1873–1939) в качестве жены, взяв его фамилию, что стало причиной судебных разбирательств и публичного скандала.
134
Хью Сеймур Уолпол (1884–1941) – популярный романист и литератор. Он был предан ВВ и хотел сделать ее своим доверенным лицом даже в самых интимных вопросах; она же была с ним менее откровенна (см. КБ-II).
135
Сэр Адриан Боулт (1899–1983) – английский дирижер и автобиограф; музыкальный директор Би-би-си и руководитель одноименного симфонического оркестра.
136
Развернутый рассказ о поведении Этель Смит, которая приходила к Вулфам на чай 20 мая, содержится в письме к Ванессе Белл (см. ВВ-П-IV, № 2375). Адриан Боулт дирижировал оркестром на премьере (в феврале 1931 года) симфонии Этель Смит «Тюрьма» в Лондоне. Она выбрала весьма неподходящий момент для того, чтобы потребовать от Боулта повторить исполнение для радиотрансляции, а свое возмущение его отказом вылила на ВВ. На следующее утро (24 мая) Вулфы отправились в Монкс-хаус и вернулись в Лондон 28 мая.
137
Христианский праздник в честь Святого Духа, который празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы (всегда в понедельник).
138
Роджер Элиот Фрай (1866–1934) – художник и арт-критик, введший в обиход понятие постимпрессионизма. Он получил диплом с отличием по естественным наукам в Кингс-колледже Кембриджа, а потом оставил науку ради изучения искусства. В 1896 году Роджер женился, но у его жены развилось психическое расстройство, и в 1910 году ее отправили в лечебницу, где она жила до конца своих дней. В том же году произошло знакомство Роджера с Ванессой и Клайвом Беллом, переросшее в тесную дружбу. Они и их окружение стали горячими поклонниками усилий Фрая по распространению постимпрессионизма в Лондоне и открытию (1913) мастерской «Omega». Он влюбился в Ванессу, но их какое-то время взаимная любовь переросла в дружбу на всю жизнь. Книга ВВ «Роджер Фрай: биография» вышла в 1940 году.
139
Клайв Белл был во Франции; Ванесса – в Риме, где к ним с Дунканом Грантом присоединились Роджер Фрай и Хелен Анреп.
140
Деревня и гражданский приход в округе Льюис в Восточном Сассексе.
141
Лампы «Алладин» и «Веритас» работали за счет горения испаряющегося с калильной сетки (мантии) парафинового масла. В Монкс-хаусе от них постепенно отказывались.
142
Деревня и гражданский приход в округе Льюис в Восточном Сассексе.
143
Роман Д.Г. Лоуренса «Сбежавший петух», опубликованный парижским издательством «Black Sun Press» за полгода до смерти автора, вышел в Лондоне в марте 1931 года под названием «Человек, который умер». Роман «Сыновья и любовники» вышел в 1913 году.
144
Гай Фокс (1570–1606) – английский дворянин-католик, самый знаменитый участник Порохового заговора против короля Якова I в 1605 году.
145
«G.P. Putnam’s Sons» – американское издательство, основанное в 1838 году.
146
Мэри Барнс Хатчинсон (1889–1977) – писательница, светская львица, модель и член группы «Блумсбери». Ее мать была кузиной Литтона Стрэйчи. В 1910 году Мэри вышла замуж за Сент-Джона Хатчинсона. Согласно некоторым сведениям, в течение многих лет она была самым важным человеком в жизни Клайва Белла.
147
Уильям Берчелл Притчард (?–1940) был старшим партнером фирмы солиситоров «Dollman & Pritchard», занимавшей первые два этажа дома Вулфов на Тависток-сквер, 52.
148
Хлористая ртуть, которую принимали внутрь как желчегонное средство.
149
Арнольд Эдуард Тревор Бакс (1883–1953) – композитор, дирижер, пианист и педагог.
150
Ральф Воган-Уильямс (1872–1958) – английский композитор, органист, дирижер; муж Аделины, кузины ВВ со стороны Фишеров.
151
Кэтрин Мэнсфилд (1888–1923) – английская писательница родом из Новой Зеландии. Вероятно, она познакомилась с Вулфами в конце 1916 года, а умерла 9 января 1923 года.
152
Дафна Теодора Сэнгер (1905–1991) – единственный ребенок Чарльза и Доры Сэнгер.
153
Чарльз Перси Сэнгер (1871–1930) – барристер, друг и современник Бертрана Рассела и Роберта Тревельяна в Тринити-колледже Кембриджа, член общества «Апостолов».
154
Джин Стюарт (1903–1997) – преподавательница Кембриджа, малоизвестная писательница, автор книги «Поэзия во Франции и Англии», выпущенной издательством «Hogarth Press» в мае 1931 года.
155
1) Первый том амбициозного исследования психологии человека как социального животного («После потопа») был опубликован в октябре 1931 года. 2) ЛВ выкупил права на свой роман «Деревня в джунглях», опубликованный Эдвардом Арнольдом в 1913 году, и первое издание «Hogarth Press» вышло в сентябре 1931 года. 3) Шесть лекций ЛВ под общим названием «Современное государство» выходили на Би-би-си каждый четверг с 1 октября по 5 ноября 1931 года (и были напечатаны в журнале «Listener»).
156
Выставка «Последние картины Дункана Гранта» в «Cooling Galleries» на Нью-Бонд-стрит, 23, была открыта леди Оттолин Моррелл в июне; перед этим ВВ обедала в студии Ванессы Белл в кругу семьи.
157
Голсуорси (Голди) Лавс Дикинсон (1862–1932) – английский политолог и философ, преподаватель, писатель. Во время войны он активно работал над созданием Лиги Наций и в 1917 году вместе с другими единомышленниками опубликовал «Предложения по предотвращению будущих войн».
158
Гала-представление, состоявшееся 23 июня в рамках «Сезона русской оперы и балета» в театре «Lyceum», включало в себя исполнение арий из трех опер: «Дон Кихот», «Князь Игорь», «Царская невеста» – и балета «Петрушка».
159
Элизабет Валетта Монтегю-Стюарт-Уортли, леди Абингдон (1896–1978) – жена 8-го графа Абингдона; детей у них не было.
160
Виктория Александра Алиса Мария, принцесса, графиня Хэрвуд (1897–1965) – член британской королевской семьи, третий ребенок и единственная дочь короля Георга V и королевы Марии Текской.
161
Морис Бэринг (1874–1945) – английский литератор, драматург, поэт, переводчик, публицист, писатель-путешественник и военный корреспондент; близкий друг Этель Смит.
162
Период правления (1811–1820) принца-регента (будущего короля Георга IV) по причине недееспособности своего отца Георга III.
163
Сэр Эван Эдвард Чартерис (1864–1940) – английский биограф. ВВ, по ее собственным словам (см. ВВ-П-IV, № 2345),«откровенно и едко» отозвалась об Эдмунде Госсе в своей статье в «Fortnightly Review». Будучи биографом Госса, Чартерис написал об этом ВВ (см. ВВ-П-IV, № 2403), но его письмо не сохранилось.
164
Флоренс Эмили Гренфелл, урожденная Хендерсон (1888–1977), – жена Эдварда Чарльза Гренфелла (1870–1941), ЧП от консерваторов и банкира; подруга Лидии Кейнс.
165
Генерал-лейтенант сэр Джордж Том Молсуорт Бриджес (1871–1939) – офицер британской армии и 19-й губернатор Южной Австралии; племянник поэта Роберта Бриджеса. После выдающейся военной карьеры и потери ноги в Битве при Пашендейле (1917) Том Бриджес ушел на пенсию в 1922 году. В 1938 году он опубликовал книгу своих воспоминаний.
166
Роуз Талбот (позже миссис Шрагер) работала клерком в офисе «Dollman & Pritchard».
167
Клиника (для лечения функциональных нервных расстройств) находилась по адресу Тависток-сквер, 51, по соседству с Вулфами. Констанс Роу работала ассистентом врача.
168
Уильям Эдвард Арнольд-Форстер (1886–1951) – английский писатель, художник, педагог и политик-лейборист, троюродный брат Олдоса Хаксли. По образованию и призванию художник, он, однако, много времени уделял Лиге Наций, а в 1926 году был назначен членом Консультативного комитета Лейбористской партии по международным делам, секретарем которого был ЛВ. 27 июня Уилл завтракал и обедал с Вулфами на Тависток-сквер.
169
Анжелика Ванесса Белл (1918–2012) – младший ребенок Ванессы, писательница и художница, впоследствии жена Дэвида Гарнетта – любовника Дункана Гранта. Ее портрет маслом авторства Ванессы висел в лондонском доме ЛВ, когда он умер.
170
27 июня ВВ ответила на просьбу Этель высказать мнение об ее статье «Композиторы и критики» (опубликованной в NSN от 9 мая), которую она редактировала для включения в сборник, выпущенный под названием «Музыка женщин в Эдеме» (1933), письмом,«написанным в спешке… со всеми очевидными недостатками» (см. ВВ-П-IV, № 2393). Истерический ответ Этель, который ВВ вернула ей с подчеркнутыми предложениями (см. 1 июля 1931 г.) и собственным холодным письмом (№ 2396), хранится в Коллекции Бергов в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
171
Стивен (Томми) Томлин (1901–1937) – младший сын судьи Высокого суда Томаса Томлина; муж Джулии Стрэйчи (см. 12 марта 1932 г.). Стивен бросил изучение права в Оксфорде, чтобы стать скульптором. Человек исключительного обаяния, юмора и сочувствия, он подружился с Банни Гарнеттом и с его друзьями из Блумсбери (см. автобиографию Дэвида Гарнетта «Знакомые лица»). ВВ познакомилась с ним в 1924 году и написала:«Есть, например, маленькое существо, напоминающее дрозда, по фамилии Томлин,и он хочет вылепить меня» (см. ВВ-Д-II, 21 декабря 1924 г.). Именно Томлин вылепил знаменитый бюст ВВ. Оригинальная гипсовая модель находится в Чарльстоне, а свинцовые копии – в Монкс-хаусе и Национальной портретной галерее.
172
Леди Оттолин Вайолет Энн Моррелл (1873–1938) – единокровная сестра 6-го герцога Портлендского, аристократка, сыгравшая важную роль в английской литературной жизни начала XX века, одна из центральных фигур в группе «Блумсбери». Она была известной покровительницей художников и писателей, а также хозяйкой, принимавшей гостей в доме 44 на Бедфорд-сквер (Блумсбери), а с июня 1915 года – в поместье Гарсингтон, которое стало убежищем для многих отказников от военной службы по соображениям совести после вступления в силу закона о воинской повинности в начале 1916 года.