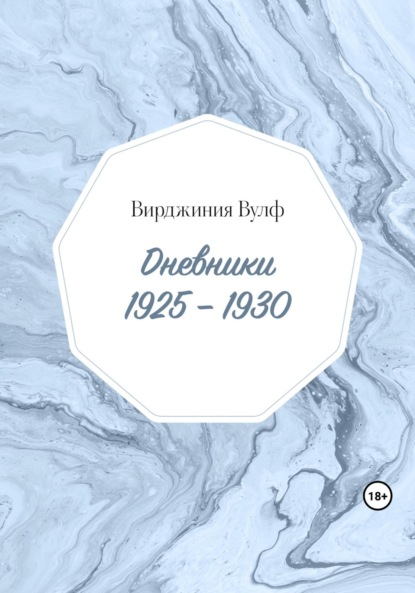Полная версия
Дневники: 1931–1935

Вирджиния Вулф
Дневники: 1931–1935
Предисловие переводчика
В последней записи предыдущего тома дневников Вирджиния Вулф сидит у камина в Монкс-хаусе и пишет о романе «Волны»:«Но он, по-моему, все равно довольно хорош». Пять лет спустя, в записи от 30 декабря 1935 года, завершающей данный том, она размышляет о предстоящей каторжной работе по переписыванию и сокращению того, что в итоге стало романом «Годы». Глядя на ее карьеру романистки, мы сегодня понимаем, что публикация «Волн» в 1931 году ознаменовала триумфальную кульминацию прогресса, начавшегося с романа «Комната Джейкоба», и обретения Вирджинией собственного неповторимого голоса. И независимо от того, считаем ли мы «На маяк» или «Волны» зенитом ее творческого пути, едва ли можно сомневаться, что 1920-е были временем растущего мастерства и все большей самореализации Вирджинии, тогда как 1930-е годы, когда она написала книги «Флаш», «Три гинеи», «Годы» и «Роджер Фрай: биография», нельзя назвать столь же благополучным творческим периодом.
Однако в начале работы Вирджиния была очень далека от того, чтобы считать «Годы» бесперспективным начинанием, – она взволнована и поглощена своей идеей. Вирджиния никогда не воспринимала «Флаш» всерьез и на протяжении почти всего десятилетия собирала материал (иногда смеха ради, иногда с глубоким праведным гневом) для той полемики, которая после множества предварительных форм и названий (в том числе «О презрении» и «Следующая война») в итоге превратилась в «Три гинеи». Феминистская нота, едва заметная в предыдущих работах, теперь звучит четко и постоянно. Однако «Три гинеи» – это не просто женский протест против высокомерия, глупости и жестокости мужчин в их отношениях с противоположным полом, а еще и беспощадная критика. Мужчины правят миром с начала времен – и каков результат? В период, который охватывает данный том дневников, постепенно становилось очевидно, что чудовищная бойня 1914–1918 гг. не привела ни к чему, кроме условий для еще более масштабной и ужасной катастрофы. Это годы, когда фашизм и крайний национализм начали свое неодолимое шествие к новой войне; годы крушения радужных надежд 1920-х британским реакционным правительством, которое, потворствуя внутренним проблемам, показало свою неспособность противостоять внешним угрозам. Худшее еще впереди, но уже к концу 1935 года картина проясняется: безработица внутри страны и политика умиротворения внешнего агрессора.
К этой зловещей динамике общественной жизни добавились личные горести самого тяжелого свойства. В 1932 году умер Литтон Стрэйчи, и вместе с ним исчезла целая глава юности Вирджинии. Вскоре за его смертью последовало самоубийство Доры Кэррингтон, и эта трагедия воспринималась еще острее, поскольку Вирджиния сама часто думала о суициде. В 1934 году умер Роджер Фрай, и эта утрата ударила по Вирджинии еще сильнее, отчасти из-за опустошительного воздействия на ее сестру, а отчасти потому, что она сама ценила его и как профессионала, и как личность. Литтон уже несколько лет жил в своем собственном кругу, тогда как Роджер оставался гораздо ближе к тому, что можно назвать сердцем «Блумсбери», если считать Вирджинию Вулф и Ванессу Белл ядром этого эфемерного образования. Роджер привнес в жизнь своих друзей доброту и заботу, вечную молодость духа, авантюризм и богатство своего ума, а его смерть обокрала их, сделав существование бесплодным и лишенным прежней смеси веселья, споров и интеллектуальной честности, которую неизменно порождало присутствие Фрая. Наконец, в 1935 году Фрэнсис Биррелл – сравнительно молодой человек – был сражен раком мозга и умер. Фрэнки никогда не был близок Вирджинии так, как Литтон и Роджер, но все, кто знал Биррелла, не могли не любить его и не ужасаться жестокости судьбы, лишившей их столь восхитительного человека. Уход Фрэнсиса тронул Вирджинию и в другом смысле, ведь он встретил смерть в трезвом уме и с жизнерадостной философией, проистекавшей не из религиозных убеждений, а из твердого рационализма.
Остро переживавшая по поводу своей репутации, Вирджиния, тем не менее, не желала принимать общественные награды, ставшие следствием растущего признания ее достижений. Должность лектора в Кембридже, почетная степень Манчестерского университета, Орден Кавалеров Почета – от всего этого она вежливо отказывалась. И хотя Вирджиния, казалось, относилась к этим дарам почти как к пустякам, она не могла так же легко отмахнуться от враждебных насмешек Суиннертона, Мирского и Уиндема Льюиса. И хотя дань уважения не сильно радовала Вирджинию, критика недоброжелателей, напротив, причиняла ей сильную боль.
Вирджиния часто преувеличивала пустяковые неприятности, и действительно, остро переживая большие трагедии, она отмечает проблемы поменьше, в частности снова и снова возвращается к извечному конфликту между стремлением вести общественную жизнь и потребностью в одиночестве и спокойствии.
Из вышесказанного можно подумать, будто страницы четвертого тома дневников окажутся записями о неизбывном горе, но это очень далеко от правды. Вирджиния Вулф, как она сама часто отмечает, была счастливой женщиной, обладавшей талантом наслаждаться жизнью и радоваться, причем под жизнью понимается все: от созерцания природы до человеческих взаимоотношений. Проницательность наблюдений за людьми и природой и, надо подчеркнуть, их точность, очевидны во всех дневниках Вирджинии, обращает ли она свое внимание на миниатюрную горничную во французском отеле или записывает разговор с Йейтсом, Шоу или Элиотом; описывает ли она погоду в долине Уз или на равнинах Марафона1. Пожалуй, самые яркие страницы этого тома посвящены заграничным поездкам, которые они с Леонардом совершили в эти годы, во Францию, Италию, Грецию, Голландию, Германию и, прежде всего, в Ирландию в 1934 году. Хотя Вирджиния знала французский и немного итальянский (и могла читать), общаться на этих языках ей было довольно трудно, а вот в Ирландии она встретила людей, которые прекрасно говорили на ее родном языке, что привело писательницу в восторг и заставило воспринимать ирландцев как коллег по писательскому ремеслу.
Разумеется, основой существования Вирджинии является ее творческая среда, а триумфы и невзгоды, связанные как с собственной работой, так и с другими людьми, пронизывают весь дневник. В этот период Вирджиния писала гораздо меньше критики, чем раньше (хотя многое переработала и опубликовала второй том «Обыкновенного читателя»), в основном потому, что успех художественных произведений избавил ее от необходимости зарабатывать на жизнь таким способом. Однако Вирджиния по-прежнему читала запоем, включая, надо не забывать, бесчисленные рукописи, представленные для публикации в «Hogarth Press». Издательство Вулфов превратилось в серьезное предприятие, которое все чаще казалось Вирджинии камнем на шее у нее и Леонарда. В 1931 году они нашли многообещающего менеджера в лице Джона Леманна, но через восемнадцать месяцев он ушел (чтобы вернуться три года спустя), а попытки Вирджинии ослабить привязанность Леонарда к своему детищу и сделать их обоих более свободными, не увенчались успехом. Разногласия Вирджиния и Леонарда порой служат подспорьем для мифов о том, что они были враждебно настроены друг к другу, – смехотворная теория, если бы ее не воспринимали всерьез. Однако эти дневники должны убедить непредвзятого читателя, что, несмотря на мелкие разногласия и размолвки, которые было бы странно не обнаружить между двумя выдающимися людьми, брак с Леонардом являлся основой жизни Вирджинии и был действительно удачным, благополучным и счастливым союзом.
Аббревиатуры и сокращения
N&A – Nation & Athenaeum
NSN – New Statesman and Nation
В. или ВВ – Вирджиния Вулф:
ВВ-Д-0 – «Дневники: 1897–1909»
ВВ-Д-I – «Дневники: 1915–1919»
ВВ-Д-II – «Дневники: 1920–1924»
ВВ-Д-III – «Дневники: 1925–1930»
ВВ-ОЧ-II – «Обыкновенный читатель. Серия 2»
ВВ-П-II – «Письма: 1912–1922»
ВВ-П-III – «Письма: 1923–1928»
ВВ-П-IV – «Письма: 1929–1931»
ВВ-П-V – «Письма: 1932–1935»
ВВ-П-VI – «Письма: 1936–1941»
КБ-I – Квентин Белл «Биография Вирджинии Вулф. Том I:
Вирджиния Стивен, 1882–1912»
КБ-II – Квентин Белл «Биография Вирджинии Вулф. Том II:
Миссис Вулф, 1912–1941»
Л. или ЛВ – Леонард Вулф:
ЛВ-III – «Новое начало. Автобиография: 1911–1918»
ЛВ-IV – «Вниз по склону. Автобиография: 1919–1939»
ЛПТ – Литературное приложение к «Times»
РФ-П-II – Роджер Фрай «Письма: 1913–1934»
ЧП – Член парламента
1931
Вулфы приехали в Монкс-хаус 24 декабря. Вирджиния почти сразу слегла в постель с температурой и практически не вставала до конца года. Она продолжала вести дневник в тетради, которой пользовалась с сентября (ДневникXX).
2 января, пятница.
Это переломный момент. Дни становятся длиннее. Сегодняшний день был прекрасен от начала до конца – впервые, по-моему, с тех пор, как мы приехали сюда. А еще я наконец-то прогулялась по холмам и около трех часов дня увидела в чистом голубом небе над широкими, затянутыми дымкой полями, словно ранним июньским утром, луну, бледную и полупрозрачную.
Вот мои обещания на ближайшие три месяца нового года.
Во-первых, не звать гостей. Не привязываться.
Во-вторых, быть свободной и доброй по отношению к самой себе, не таскаться по вечеринкам, а запереться в студии и спокойно читать.
Хорошо поработать над «Волнами».
Не переживать о заработке.
Прекратить раздражаться из-за Нелли и понять, что она того не стоит, а если ничего не получится, то ей придется уйти. Не дать в очередной раз слабину и не позволить Нелли остаться2.
Но самое важное обещание – не давать обещаний. Иногда читать, иногда отдыхать от чтения. Гулять – да, но не принимать никаких приглашений. Что касается одежды, я хочу покупать красивую.
Сегодня «Sandles»3 привезли «Миранду», и теперь она стоит в алькове. Вчера мы ездили в Чарльстон, и я довольно успешно боролась с обычной депрессией. Может, все дело в легкомыслии чарльстонцев? В их насмешках? Но все не так уж плохо, а как обычно. Там был Дункан4. Мы вошли, и комната, как всегда, напоминала, красную пещеру в глубокой зимней лощине.
Вулфы вернулись из Родмелла на Тависток-сквер, 52, на машине после обеда в среду, 7 января.
7 января, среда.
Что ж, мы только вернулись, выпили чаю, позвонил Фрэнки Биррелл5 и сказал, что его уволили, а до ужина еще два часа. Ну и чем мне себя занять? Не хочу тратить время на размышления о вновь нанятых слугах: о Нелли на кухне и Лотти6, пытающейся спрятаться в спальне. Не могу сосредоточиться ни на «Огромной комнате»7, ни на мадам Дюдеффан8. Л. разбирается с делами мисс Белшер9 и с почтой.
Нет у меня в голове прилива весенней бодрости: за эти две недели я не видела ни волнистых холмов, ни полей, ни изгородей – одни только дома с горящими каминами, страницы, перья и чернила в свете ламп – будь проклят мой грипп. Здесь очень тихо – ни звука, кроме шипения газа. Ох, какой же холод был в Родмелле! Замерзла как собака. Зато написала несколько потрясающих предложений. Ни одна книга не занимала меня так, как «Волны». Почему даже сейчас, в конце, нет ни бойкости, ни уверенности, а одни лишь мелкие придирки; пожалуй, я бы могла написать солилоквий10 Бернарда так, чтобы разорвать повествование, копнуть глубже и добиться движения прозы – клянусь, могла бы, – причем так, как еще никто не делал, – добиться ощущения смеха, непринужденных бесед и рапсодии. Каждое утро в моем котелке появляется что-то новое, чего раньше никогда не было. Но текст не дышит, ведь я постоянно выбиваюсь из ритма и уплотняю его. У меня накопилось несколько идей для статей: одна о Госсе11, критик как собеседник; критик в кресле12; другая о письмах; третья о королевах…
Вот в чем правда: «Волны» написаны с таким напряжением, что я не могу просто взять и читать их между чаем и ужином; и писать могу не больше часа, с 10 до 11:30; а перепечатывание – едва ли не самая сложная часть работы. Случится чудо, если в будущем я смогу писать свои маленькие книжки по 80 000 слов хотя бы года за два! Но я, скорее всего, подниму паруса, накренюсь в бок и пущусь, словно парусник, в очередное авантюрное приключение – во что-то вроде «Орландо».
Раз или два я выглядывала из окна на рассвете – краснота морозного неба, будто угли от дров; густой иней на полях; горящий в некоторых коттеджах свет, – и возвращалась в постель, кутаясь в одежду. Каждое утро я брала мехи, раздувала огонь в камине и почти всегда согревалась к приходу Л.13
Как же я не люблю голоса и хихиканье слуг. Хватит, прекратите!
Вечером мы включим «Большую фугу» [Бетховена] – думаю, позвонит Этель14. Сейчас пойду вниз за почтой. Письма от Тома15, Лин16 и Этель; меня просят принять участие в симпозиуме на тему Любви – больше ничего. Но у нас уже расписаны встречи с шестью людьми вплоть до понедельника, и Джон Леманн17 самый важный из них. Надо ли мне написать Артуру Саймонсу18 о его романе? О боже! Неужели нет устройства, чтобы камин не затухал хотя бы часа полтора.
10 января, суббота.
Весьма вдохновленная прочтением собственного эссе о поэзии в художественной литературе19, я пишу здесь, вместо того чтобы корпеть над Данте20. (Правда, после часового чтения «Волн» я получаю от Данте больше удовольствия, чем почти от любого другого автора, поэтому надо найти в себе силы и взяться за него.) Клайв21 заглянул минут на пять, чтобы попрощаться.
– И посмотреть, как у вас дела, – говорит он.
– А у тебя как? – спрашиваю я.
– Почти ослеп, – отвечает он довольно тоскливо.
Такие вот у нас отношения 10 января 1931 года в 17:10. Боже мой, какая странная штука – жизнь!
Сегодня днем мы с Леонардом прогулялись по маленьким грязным улочкам Севен-Диалс22 до Чаринг-Кросс-роуд. Какое же у меня было слезливое настроение от жалости к Леонарду и себе! И я спросила: «Не хочешь купить белку за полкроны [2,5 шиллинга]?» Чувство скорби охватывает тебя мгновенно.
Ради связности текста скажу, что Леманн может нам подойти – подтянутый парень с орлиным носом, румяный, с очаровательными юношескими кудряшками; да, но он настойчивый и резкий.«Оплачивается ли период обучения? Смогу ли я брать книги издательства “Hogarth Press”?»Не слишком приятное впечатление, разве что, видит бог, глаза выдают в нем человека с богатым воображением. Мы предлагаем четыре, а то и пять тысяч фунтов [в год] в качестве его доли.
Ну вот, эти цифры прогнали прочь мое волнение и дух восторга, которым я была окрылена, даже несмотря на многочисленные хлопоты по хозяйству (опять эти слуги) и пережаренное мясо.
Думаю, немного Данте не помешает – Песня XXVI.
20 января, вторник.
В тот самый момент, когда я принимала ванну, в голову пришла задумка целой новой книги* – продолжение «Своей комнаты» – о сексуальной жизни женщин; возможно, она будет называться «Профессии для женщин» – боже, как волнительно23! Все это проистекает из моей статьи, с которой буду выступать в среду в обществе Пиппы24. Теперь надо вернуться к «Волнам». Хвала небесам, но как же я взволнована.
* Это, наверное, «Здесь и сейчас» [«Три гинеи»] (май, 1934).
23 января, пятница.
Увы, я слишком взволнована, чтобы продолжить работу над «Волнами». Остается придумывать «Открытую дверь» (или как это будет называться?). Нравоучительно-демонстративный стиль вступает в противоречие с драматическим – мне трудно снова вжиться в Бернарда.
Выступление состоялось; Л., как мне кажется, немного возмущен – интересное наблюдение, если я права. Двести слушателей – хорошо одетые, увлеченные и в основном красивые молодые женщины. Этель в голубом кимоно и парике. Я рядом с ней. Ее речь разухабистая и непосредственная; моя слишком сжатая и метафоричная. Неважно. Четыре человека хотят напечатать свои речи25. Конечно, я очень устала, а сегодня утром не смогла взять себя в руки и продолжить «Волны». Мне будто 99 лет, и чуть что болит голова – боже, как часто из-за этого теряют в силе последние главы моих книг! А теперь еще и «Открытая дверь» разрывает разум на части. Но тут уж ничего не поделаешь.
Вита26 вчера вечером: «Если даже я, самая удачливая из женщин, задаюсь вопросом “в чем смысл жизни?”, как остальные-то вообще живут?» Она в каком-то подавленном состоянии. Говорит, что похвала ее книг, доставляет больше боли, чем удовольствия, и я охотно верю. Писателей скромнее, наверное, никогда не было. И все же она зарабатывает £74 за одно только утро – я имею в виду присланный за рассказ чек.
26 января, понедельник.
Хвала небесам, в этот первый день моего 49-летия я могу честно сказать, что стряхнула с себя наваждение «Открытой двери» и вернулась к «Волнам»: взглянула на всю книгу целиком и придумала концовку – надеюсь управиться быстрее, чем за три недели. К тому времени уже наступит 16 февраля, и я планирую, что, закончив с Госсом или, быть может, статьей, я поработаю над черновым наброском «Открытой двери», а доделаю его к 1 апреля. (Пасха будет 3 апреля). Затем, надеюсь, мы отправимся в путешествие по Италии; вернусь 1 мая и закончу «Волны», чтобы в июне отдать книгу в печать, а в сентябре она выйдет в свет. В любом случае это лишь примерные сроки.
Вчера в Родмелле мы видели сорок и слышали первых весенних птиц, резких и эгоистичных, прямо как мужчины; палящее солнце; гуляли по склонам горы Каберн; вернулись домой через Хорли27; видели, как три человека выскочили из синего автомобиля и помчались без шляп через поле. Увидели среди деревьев и коров серебристо-голубой аэроплан, на вид не поврежденный. Сегодня утром в газете написали о смерти трех человек вследствие падения аэроплана28, а мы продолжаем жить, и это напоминает мне эпитафию из «Греческой антологии»: «Пока я тонул, другие суда плыли дальше»29.
Вот какие заголовки запомнились мне сегодня:«Ганди30вышел на свободу»; «Павлова31будет похоронена в Голдерс-грин»; «Убийство потрошителя в Блэкхите32»; «Смерть леди Сент-Элье33», которая была так чертовски снисходительна ко мне 30 лет назад.
2 февраля, понедельник.
Мне кажется, что я вот-вот закончу «Волны». Думаю, в субботу.
Всего лишь заметка автора: никогда еще я так не напрягала свои мозги написанием книги. Доказательством служит то, что я почти не могу ни читать, ни писать ничего другого. Могу только развалиться на диване после утренней работы. Боже, какое меня ждет облегчение в конце недели – появится чувство, что с этой каторгой, с этой затеей покончено. Полагаю, мне удалось воплотить задумку, но есть ощущение, что я всеми правдами и неправдами вымучила из себя то, что хотела сказать. Думаю, эта вымученность бросится в глаза читателям и обернется неудачей. Ну и ладно – смелая попытка того стоила. Скоро я вновь буду радоваться свободе, наслаждаться бездельем и не обращать ни на что внимания; потом я смогу сосредоточиться на чтении, чего не было, страшно подумать, уже месяца четыре. На написание этой книги у меня ушло 18 месяцев, а в свет она выйдет только осенью.
На днях Уильям Пломер34 говорил о своем новом романе – не то автобиография, не то история эмигранта – больше, чем Л. сказал о своих книгах за всю жизнь.
4 февраля, среда.
День испорчен для нас обоих. Каждое утро в 10:15 Л. должен быть в суде, куда созывают всех присяжных, включая его, но заседание каждый раз откладывается до 10:15 следующего дня. А еще сегодня утром я собиралась нанести сокрушительный удар в «Волнах» – уже дня через два Бернард скажет«о Смерть!», – но все испортила Элли35, которую ждали ровно в 9:30, а она явилась только в 11:00. Сейчас уже 12:30; мы сидели и разговаривали о месячных и женщинах с профессией, но все это было после обычных манипуляций со стетоскопом и попыток определить причину моей повышенной температуры. Не будь нам жалко семи гиней, я бы прошла обследование, но нам жалко. Сейчас я приму «Bemax» [тонизирующее средство] и… – обычная рутина.
Как же странны и неожиданны эти последние проволочки с «Волнами»! А ведь я собиралась закончить книгу еще к Рождеству.
Сегодня приедет Этель. В понедельник я ходила послушать ее репетицию у леди Льюис36. Огромный дом на Портленд-плейс с белоснежной адамовской37 лепниной, напоминающей крем на свадебном торте; с вытертыми красными коврами и гладкими ровными поверхностями, выкрашенными в тускло-зеленый цвет. Репетиция проходила в длинной комнате с эркерным окном, чуть ли не упирающимся в соседний дом, – металлические лестницы, дымоходы, крыши – безжизненный кирпичный пейзаж. В адамовском камине пылал огонь. Леди Л., теперь уже напоминающая бесформенную сосиску, и миссис Хантер38, обтянутая атласом, сидели бок о бок на диване. Возле рояля у окна стояла Этель в мятой фетровой шляпе, свитере и короткой юбке, дирижируя карандашом. На кончике ее носа висела капля пота. Мисс Саддаби39 пела партию Души, и я заметила, что она одинаково играет состояния экстаза и вдохновения как в комнате, так и в концертном зале. Были двое молодых, вернее, моложавых мужчин. Пенсне Этель постепенно сползало к кончику носа. Она то и дело подпевала, а один раз, решив взять очень низкую ноту, издала кошачий вопль, но Этель все делает с такой отдачей и непосредственностью, что в этом не было ничего смешного. В такие моменты у Этель напрочь пропадает всякое стеснение. Жизнь бьет в ней ключом, струится энергия, и она так мотает головой, что шляпа вот-вот упадет. Этель ритмично вышагивает по комнате, давая понять Элизабет40, что это и есть греческая мелодия; потом идет обратно. «Мебель начинает двигаться», – говорит она, имея в виду сценические эффекты с реквизитом, символизирующие не то побег, не то неповиновение и смерть заключенного. Как по мне, эта музыка слишком литературна, слишком подчеркнуто дидактична41. Но меня всегда поражает сам факт музыки – то, как Этель извлекает из своего практичного энергичного пронзительного разума связные аккорды, гармонии, мелодии. А что если она великий композитор? Эта фантастическая способность – обыденность для нее, всего лишь основа бытия. Дирижируя, она слышит музыку как Бетховен42. Когда Этель шагает, поворачивается, крутится вокруг нас, безмолвно замерших на стульях, она думает лишь о том, что это самое важное сейчас событие во всем Лондоне. Возможно, так оно и есть. Да, а я наблюдала за удивительно чутким и проницательным еврейским лицом старой леди Л., которая трепетала, как крылья бабочки, в такт звуку. Как же чувствительны к музыке старые еврейки – до чего податливы и послушны. Миссис Хантер сидела как восковая фигура, собранная, обтянутая атласом, застывшая, вцепившаяся в сумочку на золотой цепочке.
7 февраля, суббота.
Сейчас, в оставшиеся несколько минут, я должна констатировать, хвала небесам, что «Волны» закончены. Я написала финальные слова«о Смерть!» 15 минут назад, а последние десять страниц накатала с таким рвением и опьянением, что казалось, будто я бегу и спотыкаюсь о собственный голос, и слышу только его, словно некоего оратора (как тогда в безумии). Я пришла в ужас, вспомнив голоса, которые раньше роились вокруг меня. Как бы то ни было, дело сделано, и я минут пятнадцать просидела в состоянии блаженства, покоя и даже немного всплакнула, думая о Тоби43 и о том, не написать ли мне на первой странице «Посвящается Джулиану ТобиСтивену (1881–1906)». Думаю, нет. Физические ощущения триумфа и облегчения! Хорошо это или плохо, но дело сделано и, как я почувствовала в конце, не просто сделано, а завешено, закончено, воплощено – да, пускай поспешно и очень фрагментарно, но я как будто поймала рыбу с крупным плавником, закинув сеть в волны, которые привиделись мне над пустошами Родмелла, когда я дописывала «На маяк» и поглядывала в окно44.
Что меня особенно удивило на заключительном этапе, так это свобода и смелость, с которой мое воображение подхватило, использовало и отбросило все заготовленные образы и символы. Я уверена, что их надо использовать именно так: не в качестве связующих элементов, как я пыталась сначала, а просто как образы, не функциональные, а намекающие. Таким образом, я надеюсь, что шум моря, птицы, рассвет и сад чувствуются интуитивно и подспудно выполняют свою функцию.
14 февраля, суббота.
Два дня назад я сделала завивку и, когда Несса45 высказала неодобрение, едва не впала в отчаяние. «Брошу миру вызов с кудрями», – отважно сказала я себе в шесть утра. Люблю свою тягу к экспериментам.