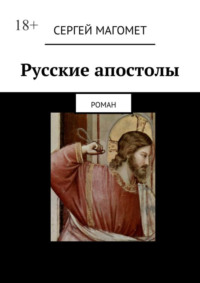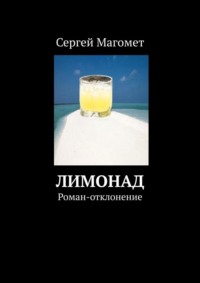Полная версия
Торжество Русской Литературы. Очерки, эссе

Торжество Русской Литературы
Очерки, эссе
Сергей Магомет
Иллюстратор Валентин Серов
© Сергей Магомет, 2024
© Валентин Серов, иллюстрации, 2024
ISBN 978-5-4474-5584-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Запрещенные приемы новейшей литературы
Когда я подавал заявку на участие в конференции «ЖАНРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ», С. М. Казначеев заметил, что заголовок моего выступления неплохой – провокативный, – но тут же осторожно поинтересовался, а кто их, эти приемы, собственно, запретил? И почему??
Законный вопрос. Он помог мне найти правильный, организующий мотив.
Я вынужден изначально совершить не совсем корректную манипуляцию: совершенно не затрагивать критериев художественности. То есть, «по умолчанию» считать, что наши с вами вкусы совпадают.
Жанры. Это конечно – условность… Но удобная – как, к примеру, психологические типы в психиатрии. В жизни, как известно, типов нет – одни пограничные состояния.
Чистые же жанры не что иное, как бездушные зомби-Франкенштейны от литературы. О которых, за редчайшим исключением, и говорить не приходится.
На Западе давным-давно существуют солидные пособия-руководства. Вполне добросовестные. Любой человек может создать произведение. Эти пособия действительно содержат множество полезных, технических сведений.
Итак, к запрещенным приемам. Они бывают весьма разного свойства.
Ну, во-первых, как в спорте. Типа коленом в боксе. Помню, тренеры учили, если сделаешь что-то запрещенное, чего судья не заметит – это только плюс. За такие нарушения не наказывают строго. Публика, однако, редко жалует такие «финты». Но если вышло с юмором, уместно – то идет на ура.
В литературе, в основном, это порнография, политика, переход на личности.
Говорить о политической цензуре почти не приходится. Буквально в настоящий момент в скандально известном Живом Журнале тысячи блогеров обсуждают, нужно ли убивать Путина, за что и как именно. Вешать, топором, топить.
Это, конечно, эксцесс, вроде припадка падучей. Издержки.
Однако, правда – литературный процесс переместился в основном в Интернет. Огромный котел, в котором варятся новые формы и жанры.
Большинство известных блогеров – по меньшей мере, журналисты, а в душе, конечно, писатели. Попадаются одаренные. Из истории классической литературы известно – что в прозу приходили – и криминальные репортеры, и спортивные комментаторы. Те, кто нес в себе энергию материала, зерна сюжета. А уж жанр формировался по ходу дела.
Такая модная сейчас «дневниковая проза». Собственно, вылившаяся в жанр блогов. Вот Фриш говорил: буду записывать, вести дневник, но – как писатель.
У современных писателей уже вся проза – есть сочетание жанров. Вольная проза Гусева, Казначеева, уважаемых коллег, – уже не литературная игра, не мистификация, как в классической литературе, а так и оно есть – тут и эссеистика, публицистика, дневники, мемуары, эпистолярные формы, афоризмы.
Не так уж все пессимистично с Интернетом. Конечно, там обитают люди практически разучившиеся читать и писать. Однако смс-ки (т.е. буквы!) в чатах-соцсетях необычайно востребованы. Когда практически нечего сказать друг другу – несколько дурацких клише – и вот атмосфера почти реального общения. Конечно, бесконечно далеко от литературы. Но факт остается фактом – буквы из употребления не вышли.
Что ж, мы живем в «фельетонную» эпоху – по Герману Гессе. А еще – она эстрадная.
Эстрадно-фельетонная эпоха. И телевизионная.
Как совмещать в одном лице клоуна и духовного учителя? Или психиатра и шизофреника? Между тем, от писателя сейчас требуют именно этого.
Все шоумены. Лишний раз подтвердился железный закон: кто складно говорит, тот писать не мастер.
Впрочем, публика-то мгновенно чует любую «фанеру». Может тоннами поглощать раскрученную макулатуру, но никогда не станет перечитывать, а тем более, обсуждать с друзьями. Да еще нет-нет – плюнет вслед вылетевшему из обоймы кумиру.
Любой издатель считает себя умнее любого писателя. А любой читатель – умнее их обоих. Если бы это было иначе, у писателя, пожалуй, не было бы никакого стимула писать как можно лучше и экспериментировать. В частности, рвать жанровые барьеры как колючую проволоку.
Однако сколько раз я наблюдал грустную картину! Хороший писатель, затюканный, одинокий, не выдержал, написал дерьмовую книжку, принес в издательство, издающее сплошное дерьмо, так его не только не напечатали, но еще и принялись совестить и позорить, хохоча: «Глядите, какое дерьмо написал!»
А умнее читателя может быть только милиционер. Теперь да, полицейский.
Еще одна очень специфическая разновидность новейшего жанра (и она же – сплошь запрещенный прием) – даже не знаю, как это назвать. Есть такое уже набившее оскомину словечко – «проект». Иногда для книги, для текста вообще ничего не нужно. Даже слов. Все равно никто читать не будет. Все передается по каким-то иным каналам. Часто достаточно одного названия и обложки. Этот феномен удивительного жанра подметил еще Дмитрий Михайлович Урнов – мол, стали появляться в 20-м веке толстые книги, которые заведомо никто не прочет. Но говорил он об этом не в отрицательном, а именно в положительном смысле. Роман как чистая идея, существующая в бесплотном пространстве и излучающая энергию, которая влияет, передается. На примере того Улисса, Джойса. Можно вспомнить и Человека Без Свойств, Музиля и Тошноту, Сартра. Хотя последние уже начали злоупотреблять жанром – добавляя неорганичную подкачку в виде философии.
Гумилевский «Этногенез» – в чистом виде такой предтеча этого странного жанра.
Новаторство в искусстве само по себе – всегда из разряда запрещенных приемов. Но тут все просто – либо пан, либо пропал. Если публика принимает новшества – употребленный прием часто становится незапрещенным.
Теперь об особом роде литературы. Не знаю, опять-таки, как ее обозначить. Придворная, что ли. Несмотря на близость к Кремлю, современные галереи литераторов напоминают провинциальную доску почета – кроме начальства, все родственники, любовницы или кумовья начальников – и оформление только для одного – создать себе памятник при жизни. И большинство их книг – такие доски почета.
За что ни возьмется литератор – издание журнала, организацию элементарного сайта в Интернете, даже за постройку сортира на своем дачном участке – все превращается в памятник себе любимому.
«Если бы я был знаменитым писателем, я бы приятельствовал с олигархами и министрами культуры, встречался с президентом, числился правозащитником или сатрапом, обо мне бы говорили по телевизору, ко мне бы приставали на улице, я бы не знал, куда девать деньги, не ездил на метро, у меня не было бы времени лежать на диване, и, вообще, я был бы маленьким, лысым и рыжим…»
В общем, чувствовать себя гением и быть гением – все-таки не одно и то же.
Реальная сценка в центральном книжном магазине. Инглишмен с охапкой альбомов по искусству, придерживая кипу подбородком, подходит к продавцу-консультанту с табличкой старшего менеджера на жилетке и на ломаном русском интересуется, что бы такого купить друзьям в подарок – из современной русской литературы.
Продавец сначала почему-то изумленно таращит глаза, потом суетливо оглядывается вокруг, как бы ища поддержки, наконец почти в отчаянии хватает с полки книгу (которая расставлена по всему магазину):
– Вот! Совершенно новый роман нашего самого популярного писателя!
Инглишмен осторожно спрашивает:
– А о чем книга?
Консультант снова приходит в замешательство. Потом, почему-то покраснев, выдыхает:
– Ну это такой очень крутой роман… Там, знаете ли, вампиры и все такое…
Вежливый инглишмен кивает, покладисто берет книгу и семенит к кассе.
Возможно ли сочетание «талантливая бездарность»? Почему бы и нет. Говорят же о покойнике в гробу – «как живой».
Смотрю, читаю, слушаю… Великое нашествие идиотов. Неужели каждое поколение живет с таким ощущением?
Один витиеватый психолог изобрел формулу: «Сознание – это то, что имеет потенциальную возможность быть сообщенным».
Тогда литература – это то, что имеет потенциальную возможность быть напечатанным?
Конечно, это так и есть. Особенно сейчас. Но в прежние времена это никак не работало. Никакие жанровые ухищрения и запрещенные приемы бы не помогли. Любой, даже самый дуб, секретарь СП, имел как минимум один-два рассказа, перепечатанные многократно в различных сборниках, включая БВЛ. Их, кстати, ничуть не стыдно прочесть, как говорится, в самом Гамбургском Клубе.
Вот говорят – партийные номенклатурщики начали дело погубления Российской словесности со своими малохудожественными кирпичами. Малая Земля Брежнева апофеоз. Но с другой стороны баррикады – прикрываясь диссидентским щитом – выпекались такие же рыхлые кирпичи.
Тот же Довлатов. Недавно перечитал «Чемодан». По сути, рассказы мелкого фарцовщика. Даже не пижона. Описывать это мастерски – на тот момент – безусловно запрещенный прием. Теперь выглядит рядовым тряпичничеством.
Так что урок, полученный с той и с другой стороны, – в сущности один и тот же: пока не попадешься на «запрещенном приеме», никто не узнает, что ты бездарность. К Довлатову, понятно, это никак не относится. «Заповедник» и «Компромисс» – великолепные вещи!
Иных «современных модных писателей» и называть неловко. На одной из книжных ярмарок. Одна из деятельниц сообщала про свой новый роман: «У меня там много чего понапихано».
Другой издал книжку под названием «А-Хули». Трехметровый муляж-макет книги высился на очередной ярмарке интеллектуальной литературы.
Скажите, какой сюрреализм-постмодернизм способен измыслить более фантастические сцены?! Подобная реальность побивает любой вымысел. Любое направление современной литературы, кроме ново-реалистического, есть бледная немощь.
Да, трудно сказать, какие книги будут читать через 100 лет. Но какие точно не будут – совсем не трудно.
Впрочем, если на секунду представить, что каким-то образом (в ранние и средние века это делалось просто) вся литература, даже с ее весьма посредственными достижениями и художественностью, за минувшие 20 лет, будет полностью изъята из культуры – человек окажется словно посреди дикого голого поля, со всех сторон которого на него наплывают волны чуждых, совершенно непонятных реалий других племен и народов.
Война культур в эпоху нового переселения народов и смешения языков – реальность. В условиях войны хранить «политкорректность» – смешно. Вступление литературы в «зацензурную» область – даже выгодна государству. Любому. Всегда можно привлечь… Гораздо труднее творить без заходов в эти «политические» области. Мое поколение попало в самый-самый конец этой эпохи. И мы, в отличие от предыдущих поколений, скрывающих вечную фигу в кармане, не просто научились это виртуозно делать, но главное поняли – на печальном примере старших братьев-писателей – что это совершенно ни к чему. Кроме малохудожественности ничего в себе не разовьешь…
Совсем небольшая категория современных писателей – писателей-стоиков – так сказать классического направления – просто тихо и мирно, кто как раб на галере, кто как помещик в имении – трудятся исключительно в классически устоявшихся жанрах, вообще без оглядки на публику и процессы. Если они и пользуются «запрещенными приемами», о которых я здесь говорю – то лишь теми, которые лет 50 не запрещены.
Кстати, иногда очень здорово получается! Недавно рецензировал альманах «Московский Год Прозы» – исключительно высококачественная проза – ее «классичность» – достоинство или недостаток – не знаю…
Скажем так: они и есть хранители предания, классической традиции.
Иногда у меня такое ощущение, что литература – практически раздел археологии.
Почему? Ну вот представьте, откапывают где-то книжку. Скажем, того Сэлинджера. У него в «Над пропастью» есть такой эпизод. Парнишка заказывает себе в вокзальной забегаловке завтрак: яичницу с двойным беконом, апельсиновый сок, кофе с молоком, горячие булочки… А тут же за столом молоденькие монашенки перебиваются пустым кофе с тостами. Вот парень отчаянно мается про себя: нет, просто кусок в горло не лезет, когда у меня на завтрак яичница с беконом и так далее, а у бедных монашенок пустой кофе с тостами!
Допустим, начинают расшифровывать ученые филологи-психологи это место, а расшифровать не могут. Как? Почему? Что за странные буквы! Что, вообще, там происходит??
Культура не столько объединяет, сколько разъединяет. И не только на национальной почве.
Жанры, направления всегда выполняли еще и функцию заборов между враждующими литературными кланами. Многие поколения лепятся вокруг неких т. н. особенно «нравственных» кумиров. При этом как-то очень уж истово распаляют в себе любовь к оным. Даже если достижения кумиров весьма спорного, даже подозрительного свойства. Даже художественно ущербное. Только неожиданные исторические находки-документы проливают свет на тайны кумиров. И тогда оказывается, что в биографии, несмотря на всю парадную эстетику, скрыт порок. Доносы, предательства. Вот и получается: неспроста было это смутное ощущение чего фальшивого, экзальтированного. Подобные факты, хоть и не столь вопиющие, как-то усвоены, переварены теперешней публикой. И кумиры даже публично каялись (что, конечно, делает им честь), но, благодаря какой-то удивительной не-брезгливости публики, как ни в чем не бывало продолжают существовать в привычном образе «нравственного кумира».
Интересно, что подобные случаи характерны лишь для культурной ситуации новейшего времени. Которое предвидел Гоголь, когда писал во 2 томе «Мертвых Душ» о сокровенной цели злоумышленников так спутать всё, чтобы была полная невозможность достичь истины. В прежние эпохи даже отдаленный привкус дегтя ставил крест на кумире. Мол, мастерство мастерством, а ты все ж, братец, шельма, и детей я тебе не доверю… Появись подобные разоблачительные свидетельства о нынешних кумирах, публика, пожалуй, даже не удивится.
Как говорится, что толковать о литературе – лучше уж сразу переходить на личности!
Один пожилой писатель, рыбак и охотник, характеризуя подход современных издателей и редакторов, говорил, что, мол, есть в рыбной ловле аналогичная хитрость – ловля «на вонючку».
Матерщина в прозе – особ статья. Скорее, она характеризует культурное состояние общества в целом. Есть в медицине даже такой симптом, характеризующий определенные клинические аномалии. Сквернословие – как признак психического помешательства.
С другой стороны, талантливая метафора или сравнение, употребленные не к месту, ради красного словца, – производят впечатление похуже, чем грязные ругательства в приличном обществе.
Ситуацию, в которой эстетические критерии объявлены исключительно «делом вкуса», как-то неловко называть «культурной».
Художественная литература, вообще говоря, кроме собственно эстетического назначения, имеет массу полезных функций: коммуникации, социально-психологической терапии, просветительства, обкатки новых и неизвестных идей – часто весьма далеких от литературы (не только в сегменте научно-фантастической прозы), моделирования иррационального, футурологии, индивидуальной корректировки личности и, наконец, хранительницы национального духа.
Вот Японцы. Говорят, исследовали влияние художественной литературы (прозы!) на развитие науки и технологий. Именно благодаря расцвету и поддержке прозы (а мы знаем, что послевоенная литература необычайно высока – достаточно называть нобелевских лауреатов Оэ и Кобо Абэ. На Кобе, к слову, Нобелевка возможно и «закончилась».
Или вот хоть юбиляр Жюль Верн – основанный им жанр немало поспособствовал прогрессу цивилизации – но вовсе не в смысле популяризаторства науки, а раскрепощая посредством художественных образов – образного мышления как такового, развивая способность к концентрации и удержанию информации в сознании.
Стоило бы поразмыслить о феномене возникновения жанров. Ведь они не плод праздных фантазий. Не компилирование Аристотеля и прочих греков.
Впервые, я лично стал свидетелем формирования более или менее новой жанровой системы, когда молодым редактором пришел в журнал «Московский Вестник» и завотделом Игорь Николенко с загадочным видом говорил: о, здесь исповедуют особ жанр, мистическая проза! Бежин, Караваев, Отрошенко, Есин, ну и сам Николенко…
Это был 89—90 год, когда само слово «мистика» (сейчас трудно поверить!) произносилось шепотом. Хотя толком никто не знал, что это такое. Понятно, так повелось еще антицерковных кампаний, когда за проповедование определенных идей могли и посадить, а еще раньше и расстрелять.
Вот Пушкин жил во времена, когда еще никому не приходило в голову игнорировать или уничтожать границы жанров. А тем более смешивать их – что представлялось высшей степенью непрофессиональным, да и просто безвкусным. Я не говорю о тех случаях, когда обозначение жанра выдумывалось исключительно ради привлечения читательского внимания. Известно, что требовался изрядный авторитет, риск и смелость, чтобы заявлять свои новые тексты как «роман в стихах», применительно к поэме, или «поэма», применительно к роману.
По правде сказать, современные литераторы не особо сведущи в жанровых хитросплетениях. Да и особ не печалятся.
Многим пишущим, наверное, знаком это процесс – рождения произведения – рассказа, миниатюры. Думаешь ли в этот момент о каких-то там жанровых свойствах? Нет. Перебираешь какие-то слова, образы. Как мелодия, как песня. Мне нравится аналогия с музыкой. Композитор работает на пространстве семи нот, ограниченном кол-ве ритмов, гармоний, пространстве, которое исследовано до атома. Но «Дыры» удается отыскать. Самые простые мелодии – как правило, самые красивые и яркие. Там где, казалось бы, всё вычищено – что-то чувствуешь, что-то находится.… Потом начинается что-то вроде золотой лихорадки: как в рассказе Джека Лондона, что-то странное приключается со временем, с его течением – от рассвета до заката проходит— словно всего несколько минут… Но ведь и читатель, если автору удается нащупать золотую жилу, испытывает то же самое…
Конечно, когда произведение готово, бывает любопытно попытаться проанализировать его структуру и генезис.
Моя вторая литературная профессия – переводчик. Последние годы я перевожу на литературный английский. То есть на язык изначально мне чужой. В отличие, например, от Набокова.
И вот какое удивительное я сделал открытие – в процессе перехода на английский. Читая в оригинале Лондона, Фаулза, Кинга – вдруг осознал, какие скромные средства (при моем весьма ограниченных языковых возможностях) требуются для того, чтобы в моей голове возник детальнейший, до мельчайших изгибов и оттенков проработанный образ…
Кстати, весьма искушенный в писательском ремесле Стивен Кинг пишет о чем-то подобном. Литература – есть своего рода гипноз и телепатия. И магия. Например, если напишете нечто весьма примитивное, примитивным языком, простыми словами: «На столе, покрытым скатертью в горошек, стоит клетка с кроликом, на боку у которого выведены зеленые цифры 66…» Вы тут же представите себе определенный стол, скатерть в красный горошек, железную клетку с никелированными прутьями, белого кролика с розовым носом и неровные, словно намазанные зеленкой, цифры… Как, откуда? Ничего этого в убогом тексте не было!.. Но я скажу больше: вы не только увидите эти почти осязаемые подробности, но и почувствует нечто другое – загадочное, глубокое пространство вокруг…
Жанры, приемы… Классический писатель, бедный, мучается, постоянно в сомнениях – писатель ли он. А вот у женщины проще. Приносишь деньги – писатель. Не приносишь – не писатель. Опять приносишь – опять писатель… И только мы понимаем, что писатель – раз и навсегда писатель!
Очень кратко. Проза и стих: дивергенция или конвергенция?.. Думаю – полная, безоговорочная конвергенция. Прошли времена формальных экспериментов. Как в Оптимистической Трагедии (кстати, пример синтеза многих жанров), которую я сейчас перевожу – где в текст встраивается ритмическая проза и чисто поэтические образы.
Но все ж в Каннах – приз дали не за художественные изыски и эксперименты – а в категории лучшая Революционная Эпопея.
Иногда хочется воскликнуть: какие там жанры, какая там эстетика!
Литература без иерархии, без императоров и фараонов (как и жизнь вообще) превратилась в сплошное Гуляй-Поле. Никто не видит ни смысла, ни потребности чему бы то ни было соответствовать. Случайные люди не чувствуют себя обязанными хотя бы иногда заглядывать в орфографический словарь. Какие уж тут пирамиды и маяки! Одни землянки, да хутора.
Да самозваные «батьки» и «мамки».
Также хочу сказать о запретах совсем иной природы. О том, что, наверное, имел в виду Щедрин – говоря о литературе как о «путешествии в запретное».
А Юнг так прямо и заявлял: «Наивный не замечает, какое оскорбление наносит людям, говоря с ними о том, чего они не знают…»
С другой стороны, чуть-чуть перефразируя Ф. Сологуба, и писатель никак не может примириться с тем, что несправедливость и неправда очень удобны для людей, а справедливость и правду надобно создавать, ибо нет их в земной природе. Горько писателю видеть, что ложью держится сама жизнь. А правда разрушает ее.
Это очень похоже на то, что описывал Томас Вулф в «Домой Возврата Нет», когда писателя грозились линчевать земляки – за вполне невинно изложенные подробности их провинциального быта.
Можно еще проще: приходишь, значит, в гости, отлично эдак пообедаешь, выпьешь, и что же – никак не можешь удержаться, чтобы не открыть глаза хозяевам на их уродства!
Собственно, литература этим, по большей части, и занимается.
Сюжет, материал, композиция, жанр, стиль, чувство меры… Только когда читаешь великих, понимаешь, какая все это чепуха!
Гоголь говорил, что не видит большего подвига писателя – как подать руку изнемогшему духом. В этом смысле, я уверен, при всем своем благоговении перед литературой, он не остановился бы перед использованием любых запрещенных приемов.
Нынешние писатели частенько сетуют на подлое наше время: мол, слово литераторов теперь ничего не стоит. Вряд ли это справедливо. То есть и ныне, и в прежние годы слово имеет один и тот же вес. Вот только сами литераторы изрядно «полегчали». Взять хоть «благословенную» пушкинскую пору. Тогда литераторов опасались. А сами они жизнями не аллегорически рисковали. И сажали их, и вешали. Не из-за их книжек, конечно. Ведь и заговоры устраивали, и в масонских ложах сиживали. Были не при власти, а сами были частью власти. Бестужевы-Пестели. Да и в быту могли эдак запросто на дуэль вызвать – застрелить, заколоть… Сколько их было – писателей-революционеров! Не только подпольно листовки печатали, но и бомбы метали. Вроде даровитого Степняка-Кравчинского. Да и Владимир Ильич – тоже именовал себя «писателем».
Если бы нынешние собрались да ухлопали парочку губернаторов, олигархов или еще кого, так и на их книжки публика, может быть, стала бы молиться… А так – расписались в худосочности своего слова – не способного ни образумить, ни уничтожить, ни даже толком оскорбить…
Я веду именно к понятию жанра, и, что важнее, к его корню. Русская традиция понимания литературы – отнюдь не ограничивается выделением ее в вид искусства, обслуживающего досуг обывателя. Литература, ее предмет и содержание – даже не продолжение и не результат, есть жизнь как таковая.
Таким образом, нужно зафиксировать правильную причинно-следственную связь. Сначала жизнь и автор – и только затем жанр и произведение!
Солнце наше, Пушкин Александр Сергеевич, как подметил еще Юрий Лотман, «…вошел в русскую культуру не только как Поэт, но и как гениальный мастер жизни». Вот уж, действительно, кто не вдавался в теорию литературы, не делал нарочитых разделений на жанры. При этом свободно плавая в любом из них. Если нужно оперативно отреагировать на подлость, тупость или тиранство – пускал эпиграмму. Если хотел добиться женской благосклонности – писал сонет-посвящение. В минуту праздности – мог и поэмку присочинить. Потребность общения – прибегал к эпистолярию. И т. д. Форма, жанр рождались исключительно в соответствии с потребностями сердца и ума. Когда он говорил о чистой поэзии, то, как мне всегда казалось, он имел в виду именно это – свободу творчества как свободу жизни – как высшее ее мастерство. … Ох, недаром, видно, с памятника Пушкину, как известно, регулярно тырят ограничительные цепи! Это очень символично!