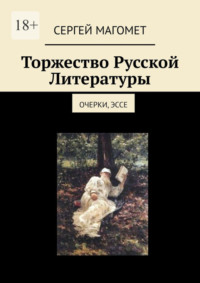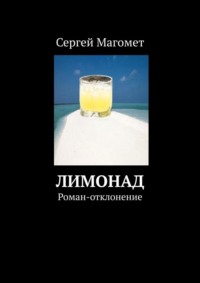Полная версия
Русские апостолы. роман
В общем, у меня дома, можно сказать, сложился свой культурно-религиозный кружок. Нам очень интересно вместе. Времена-то на дворе тревожные, грозовые, и в нашем общении мы находим большое утешение и надежду. Собираемся у меня регулярно, пьем чай с сухариками, а когда и ни с чем, устраиваем большие дискуссии, читаем поэмы. Большинство – молодежь моего возраста. Впрочем, не только…
Да сам я, строго говоря, давно уж и не «молодежь». Какая там «молодежь»! Даже удивляюсь, как быстро летит время…
А с некоторых пор происходят архистранные вещи. В наш кружок впархивают некие барышни. Серьезные донельзя, независимого нрава, ветреные, болтливые, просто глупенькие, часто весьма неопределенного возраста, самых разных пропорций и свойств. Но все они, без исключения, спустя некоторое время, вдруг делаются моими горячими почитательницами. Их приводит в восторг любое сказанное мною слово и мнение, даже самое обычное. Теперь их, таких почитательниц, у меня сразу несколько штук. Причем очень ревнивых, – до того, что между ними явно разгорается что-то вроде непримиримого соперничества. Зовут их, кого Катя, кого Марина, кого Ольга. Под предлогом, якобы, «забыла прошлый раз книгу» или еще что-нибудь, повадились являться в гости совсем на ночь глядя, когда маменька уже видит третий сон; я-то по обыкновению полуночничаю.
И вот в такой поздний, темный час вдруг поднимаю глаза от книги и вижу на пороге одну из них – барышню, словно сошедшую со страниц Ивана Сергеевича Тургенева, с невинной улыбкой уверяет меня, что входная дверь была не заперта. Но я-то прекрасно знаю, что дверь-то, несомненно, аккуратно заперта маменькой, а барышня моя могла проникнуть в дом разве что через форточку или через печную трубу… В следующую секунду она бросается передо мной на колени, говорит, что хочет быть мне помощницей в моих серьезных трудах, а еще умоляет позволить ей остаться у меня на ночь. Видя, что дело нешуточное, что гостья либо разрыдается, либо, чего доброго, лишится чувств, я мягко и очень осторожно говорю:
– Если бы не мое физическое состояние… требующее от вас принесения себя в жертву…
– Принесения в жертву?! – восклицает гостья и все-таки заливается слезами.
– Смею вам напомнить, я калека, – говорю я. – Увечный…
– Нет! Нет! Это не так! Наоборот! В моих глазах вы – словно сказочный богатырь! Прекрасный витязь!
И слезы, слезы.
– Значит, вы согласны, чтобы завтра пойти повенчаться? – интересуюсь я.
Плачет еще горше.
– Как вы можете быть таким жестоким, милый? Вы же не хотите выставить меня на позор? Или вы надо мной смеетесь?
– Нет, я говорю серьезно…
Тем не менее, гостья остается. Этой ночью куда ж ей деваться?.. И уже на другой день снова спешит на наш кружок. И через день тоже.
Ну, как бы там ни было, некоторые из этих барышень вовсе не глупы и не такие уж легкомысленные, и, без сомнения, искренне преданные создания. Однако все без исключения почему-то испытывают неодолимое влечение к подобным ночным визитам.
Уж не знаю, что и делать!.. Сначала просил маменьку, чтобы та тщательнее проверяла перед сном все запоры и задвижки. Потом бросил. Пользы никакой, только маменьке лишняя тревога. Потом прошу ее переставить свою кровать и некоторое время спать у меня в комнате – под тем предлогом, что, якобы, у нас завелось крысиное семейство, повадившееся ночью ко мне, ужасно хитрющее, проникающее мимо всех ловушек. Но и это не срабатывает! Едва наступает ночь, милая маменька погружается в такой крепкий сон, что ее до утра уж не разбудить ни кашлем, ни хлопками в ладоши. Думаю, и пушкой тоже. Что ж говорить о моих бесшумных ночных барышнях!
Прибегаю к последнему средству: усиленной молитве. Молюсь долго, сосредоточенно, но, видно, слаб и грешен: время от времени барышни еще проникают. Но я нисколько не унываю, читаю святоотеческие советы, продолжаю молиться Богу и святым угодникам, и вот молитва начинает действовать. В один прекрасный день наваждение наконец сходит на нет. Только иногда из-за спин знакомых замечаю робкие взгляды моих прежних ночных гостий…
Вот так незадача, и совсем не шутки! Я и предположить не мог, что, лишившись ночных гостий, окажусь в такой страшной тоске и печали! Уж раскаиваюсь даже… Как это напоминает историю про одного святого анахорета, которому тоже досаждали подобные мирские искушения и по молитвам они также были от него удалены! Куда более тяжким испытанием стало для него спокойное уединение, когда на него разом напали могущественные и беспощадные внутренние враги – демоны и бесы. Отшельник пришел в такое отчаяние, что, слезно раскаявшись в своем своеволии, стал умолять Бога вернуть ему прежние неудобства, и Господь вернул… Вот так и я. С той лишь разницей, что я не святой анахорет. Да у меня и язык бы не повернулся просить Господа о подобном… Я лишь денно и нощно повторяю: «Господи, Ты знаешь!..»
И вот по прошествии нескольких лет в нашем кружке вдруг появляется необыкновенное создание – молоденькая, тоненькая, в высшей степени молчаливая девушка, только что окончившая гимназию. Она не просто увлечена Тургеневым и Достоевским, не подделывается – эти имена для нее священны. Очень скоро я понимаю, что в ней уживаются как бы две разные личности. В компании она совершенно тушуется, ее буквально не видно, не слышно. И только когда остаемся с глазу на глаз, совершенно преображается, и наш разговор, горячий, свободный, дружеский – просто праздник и пир души!
Но главное ее свойство – каким-то необъяснимым образом, иногда одним своим присутствием эта тоненькая девушка вдохновляет, поддерживает, развивает всё, чем бы я в данный момент не занимался, будь то рукоделие, творчество, дела или просто размышления.
Мы можем говорить часами и часами. Ее знания, начитанность весьма скромные, однако у нее несомненный талант понимания человека и чутье. Теперь все без исключения мои увлечения и интересы стали также и ее интересами и увлечениями, и, в особенности, конечно, богословие, иконография и церковное благочестие. Сама из очень набожной, работящей семьи, очень бедной и тихой. Однако во всем, что касается веры, – скала непоколебимая. Особенно мы полюбили вместе молиться.
С самого первого ее появления, и также неприметно, она оказывается незаменимой помощницей маменьки (которая в силу уже преклонного возраста часто прихварывает) во всех домашних делах. Так деликатно, так по-родственному. Я до того привыкаю к ней за день, что когда вечером она объявляет, что уже поздно и ей пора домой, начинает прощаться, для меня это всякий раз как гром среди ясного неба, охватывает великая печаль – что нужно расставаться, хотя бы до завтрашнего утра…
Впрочем, разве я могу, имею право мечтать о чем-нибудь большем?!
Но вот однажды в момент одного из таких вечерних прощаний она вдруг поднимает на меня свои прозрачные голубенькие глазёнки и говорит весьма твердо:
– Если ты хочешь, чтобы я оставалась и на ночь, нам нужно пойти в церковь и обвенчаться. Ты согласен?
Конечно, я согласен!
Ну вот, теперь я женатый мужчина. Что удивительно, милая маменька кажется в тысячу раз счастливее, чем сами молодожены. Маменька спешно пакует вещи, готовится к поездке в Москву, о которой давно мечтала, – навестить наших родственников. Она радуется тому, что в медовый месяц мы с женушкой сможем наслаждаться полным уединением.
Само собой, и в этот раз я до мельчайших подробностей расписываю для маменьки предстоящую поездку и настоятельно прошу привести мне подробный отчет обо всем, что она видела. Специально к ее поездке изучаю журналы, газеты, справочники – чтобы снабдить маменьку списком самых интересных мест, которые ей непременно следует посетить. И в первую голову конечно монастыри, знаменитые храмы, досточтимые православные святыни. А уж потом самые лучшие театры, балет, оперу с опереттой…
Что касается последних, хотя они и легкомысленного свойства, мы с маменькой давно мечтали побольше узнать о них. Теперь, наконец, наша мечта сбудется. То есть, маменька посмотрит и всё мне донесет-доложит.
Мир сцены и кулис всегда казался мне таинственным и притягательным. Сколько я ни читал, ни пытался, не мог представить, что должен испытывать зритель, смотрящий на сцену, где актеры, такие же обыкновенные люди, как и он, разыгрывают какую-то другую, удивительную жизнь, – да так, что забываешь, где находишься. К тому же, эта жизнь на сцене, разукрашена поэзией, музыкой, пеньем, танцами!
В синематографе, нашем городском, да, я бывал пару раз, не особенно понравилось. Движущиеся картинки и тени, конечно, штука забавная, но во всём остальном фильмы сплошь – ужимки, гримасничание. Да еще кровь и страсти. Да и тапёр варвар безбожно дубасит по клавишам пианино.
Еще заказываю маменьке разыскать, если только удастся, и привезти несколько луковиц диковинных мохнатых тюльпанов – в качестве главного украшения нашей с женушкой «свадебной» клумбы, которую мы задумали разбить под нашими окнами.
Медовый месяц пролетел-промчался. Милая маменька, вернувшись из Москвы, как всегда постаралась выполнить все мои заказы. Привезла множество сувениров и ценных вещей. Среди последних – несколько антикварных книг по живописи, прижизненное издание Тургенева, новые граммофонные пластинки, записи русских и итальянских басов, открытки с видами Москвы, кулек с кусочками ладана, а также бутыль лучшего монастырского кагора. Даже луковицы редкостных тюльпанов разыскала… И, конечно, самое главное – привезла восторженные впечатления об архитектуре, театре, которых, чтобы просто пересказать, хватит нам, наверное, на несколько месяцев вперед!.. У нас с женушкой такое чувство, будто мы сами вернулись из чудесного свадебного путешествия.
Кружок наш домашний функционирует даже еще с большим успехом. По отношениям и духу всё больше напоминает добрую христианскую общину.
Вот так и живем, уютно, радостно, все вместе одной семьей, роднее нет людей, и друзья-единомышленники самые задушевные. Ничто не омрачает наш счастливый семейный очаг.
Хотя нет… неожиданная, тяжелая распря все-таки проникла в нашу тихую заводь. И всё из-за «басов», которых маменька привезла из Москвы. Сама маменька всем сердцем полюбила итальянские голоса, а у нас с женушкой в абсолютном фаворе, естественно, русские. По этому поводу у нас нет-нет да случаются споры до хрипоты, и весьма язвительные замечания… Однажды доходит даже до того, что после очередного прослушивания пластинок и возникших споров маменька, красная, как помидор, от возмущения вылетает из нашей комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Но не уходит, а стоит тут же под дверью, продолжая доказывать, что ее итальянцы лучше, и даже пытается подкрепить свое мнение, прекомично изображая итальянское пенье, причем в полный голос. Мы же с женушкой снова и снова раскручиваем одну и ту же пластинку, кричим маменьке, чтобы она меняла репертуар и присоединялась к нашей, «русской партии». Я до того увлекаюсь спором, что сам начинаю громко петь, стараясь нарочно перекричать поющую за дверью маменьку… Ох, и наломал я дров! В следующее мгновение маменька срывается на рыдания, аж вся трясется, а я вижу, что совершенно обезумел. Как я только мог так жестоко обижать бедняжку и даже не замечать этого?!.. Если не устрашился огорчить ее еще больше, то наверно разбил бы эти чертовы граммофонные пластинки вместе с чертовым граммофоном. Вместо этого сдержался и велел женушке перенести и пластинки и граммофон насовсем в комнату маменьки, пусть уж лучше она сама ими заведует и распоряжается, а также передать ей мои самые отчаянные извинения… Да я и сам сейчас вот буду вымаливать.
Хоть и не часто, но время от времени, взгромоздившись на кресло-коляску, удается попутешествовать далеко за пределами не только нашего садика, но и улицы. И в церковь, и на ярмарку, и в кинематограф. Счастье и радость неописуемые. А весной специально отправляемся в дальний уголок городского сада, чтобы насладиться тамошней роскошной сиренью – вдохнуть полной грудью ее умопомрачительный аромат, послушать соловьиный цокот и щелканье. Чувствуешь себя совершенно, как в раю. Ни больше, ни меньше.
Уже несколько лет я ношу окладистую бороду – пышную, лопатой, как у русского крестьянина. Нередко люди на улице, принимая меня за священника, подбегают ко мне, спрашивают разрешения благословиться. Другие же принимают меня за нищего инвалида, который ездит собирать подаяние, и, стоит мне зазеваться, пытаются сунуть мне в руку несколько медяков, а то и серебряный четвертак или даже полтинник. Смущаюсь ужасно. Стараюсь спрятаться за иронической улыбкой. А иногда ужасно злюсь… Кто знает, может быть, не следовало бы отвергать предлагаемую милостыню? Какой-нибудь настоящий нищий-калека вынужден попрошайничать целыми часами, да и то не соберет и десятой части того, что я отвергаю в течение одной прогулки.
Теперь, когда все церкви в городе позакрывали и разорили, за исключением одного храма, большого великолепия и размеров, но весьма удаленного, я увлечен составлением плана путешествия туда. Я чувствую себя полководцем перед грандиозной битвой. Прежде всего мне нужны самые подробные сведения о местности и возможных рисках и препятствиях на моем пути, а также путях обхода, и я посылаю моих домашних, словно верных и опытных лазутчиков, на разведку. Передо мной карта, на ней отмечены десятки, сотни таких препятствий: рытвины, выбоины, канавы, шлагбаумы, бревна, камни, лужи и так далее. Ведь инвалидная коляска штука неповоротливая, тяжелая, один неосторожный маневр и можно легко опрокинуться в канаву и свернуть себе шею. А если дождь, ветер, налетит гроза? А если, упаси Боже, град с куриное яйцо?..
Но вот план-карта составлена, все препятствия учтены, и с утра пораньше наша маленькая экспедиция, помолившись Богу, выдвигается за ворота.
К счастью, экспедиция, занявшая целый день, удалась на славу. Ни грозы, ни града. Никаких помех, всё как по маслу. Даже одну из громадных луж успели засыпать… Совсем другого рода событие происходит во время нашего паломничества в дальний храм…
День, кстати, самый обыкновенный, будничный, даже никакой не праздничный. Богослужение в церкви проходит скромно, народу почти никого. Десяток от силы. При таком большом помещении кажется совсем пусто. Солнце закрылось облаком, и сразу становится сумеречно, скучно. Диакон начинает читать, потом обходит храм с кадилом. Священник долго не появляется из алтаря. Потом отворяет Врата. У него серьезное, печальное лицо. Тихонько вращая колеса коляски, я подъезжаю к самой солее, отгороженной низенькой золоченой решеткой с золочеными же шишечками. Женушка держится у меня за спиной. Рядом со мной несколько стариков и старушек. Из-за тусклого освещения и долгого путешествия меня клонит в сон… Потом как будто в одно мгновение проясняется и светлеет. То ли я встряхнулся от сна, то ли солнышко на улице вышло из-за облака. Не успеваю сообразить, в чем дело. Только вижу перед собой сияние – словно целый сноп разноцветных лучей упал со всех сторон на солею и она засверкала, засияла… Я вздрагиваю от неожиданности, когда вижу, что в двух-трех шагах передо мной стоит молодая женщина. Удивительно! Она находится за золоченой оградкой с шишечками, прямо перед распахнутыми дверями алтаря, даже несколько внутри, – в глубине же алтаря священнодействует батюшка… Удивительно и то, что одета она не так, как обычно одеваются для церкви, а довольно-таки пестренько: платье из ситца, полосатенькая кофта, радужный платочек… Но вот поднимает на меня глаза, только глаза – и какое мгновенное преображение! Даже голова кружится. Передо мной Мария Магдалина! Поразительно и то, что в этот момент я вижу (и могу сравнить) Ее изображение-образ перед большим распятием, на иконах рядом. И черты, и одежда, и даже платок… Дело не в сходстве, а в том, что это Она и есть… Сижу в своем кресле-каталке, хлопаю глазами, как баран, пялюсь, словно на меня нашел столбняк. А Она посмотрела, посмотрела, а потом слегка машет мне рукой: как бы зовет подойти, следовать за Ней. И, поскольку я сижу и продолжаю глупо пялиться, поворачивается, уходит в алтарь, прикрывая за собой Врата. Даже если бы это было просто сонным видением, счастье, переполняющее меня в этот момент, никак не убавилось. Только это было не сонное видение…
Но маменьке и женушке я всё ж говорю, что это был сон. Подозреваю, они догадываются, как было на самом деле. Мы потом много говорим об этом происшествии, и так и эдак предполагаем разные его мистические смыслы и тайные значения.
Впрочем, про себя сразу решил главное: вот, теперь мой путь определен.
Последнее время наш «кружок» стал особенно многолюдным. Кто заглянет только разок. Но большинство – приходят снова и снова. У нас тут даже разные «направления» и «школы» образовались, как я их называю в шутку. Я имею в виду, что слишком уж разные люди – по взглядам и интересам: кому-то ближе искусства и литература, кому-то история, философия, святоотеческая литература и догматика. Что любопытно, хоть в кружке люди глубоко верующие, но время от времени заходят и атеисты. Тоже очень хорошие люди. Юноши, зрелые люди, пожилые. Моя женушка настолько увлеклась, что даже завела что-то вроде регулярной воскресной школы для малышей и их родителей. Кроме того, люди испытывают огромную потребность поговорить о своей жизни – о горестях, сомнениях.
И все-таки большинство приходит, чтобы узнать Христово слово. Это совершенно не удивительно, так как у нас закрыли последний храм, тот самый дальний, а священника судили и расстреляли, – после чего, кстати, у нас в кружке заметно прибавилось народу.
Из старых «литературных» знакомых очень часто бывает Сергей Гаврилович. Он из тех, кто хочет докопаться до самой глубины. Правда, я могу сказать, что так уж хорошо понимаю его писания, но человек он, без сомнения, страстной души – поэтический, а также философского ума, романтический, но и наивный, в одно и то же время удивительно простой и замысловатый. Говорить с ним – всегда развлечение и наслаждение, о самых различных предметах. Сейчас мы слушаем вместе радио – прекрасная, новая вещь – и обсуждаем концерты, политику, новости. Да всё что угодно.
А еще конечно иногда, не часто зачитываем друг другу собственные поэтические и другие сочинения. Вот, читаю ему свое:
Как славословить тебя, наша княгинюшка?Сколько верных жен еще плакали у Креста?А сколько плачет-рыдает нынче у русской Голгофы!..В темном, страшном подвале мерцает в окошке звезда.В час полуночный жертву наметил железный Маузер.Венценосные страстотерпцы, молите Бога о нас…Мой друг-литератор окрестился уже во взрослом возрасте, сравнительно недавно, и поэтому особенно интересуется всякими сложными, запутанными догматическими предметами. Мы чинно пьем чай, чашку за чашкой, и через каждую чашку он предлагает мне очередной вопрос – о старых и нынешних ересях. Отвечаю ему терпеливо и подробно, просто как сам понимаю.
Но последнее время более всего он мучается вопросами, какое будущее ожидает Россию и мир в целом.
– Ты, друг мой, – говорю ему с улыбкой, – доживешь до весьма преклонных лет и, конечно, увидишь все эти удивительные перемены. И даже перемены после перемен. Всё пойдет вкривь да вкось, вот увидишь. Но потом кривое выпрямится, и это ты тоже, конечно, увидишь…
Время летит. Кто бы сомневался. Взять хоть маменьку – такая старенькая-престаренькая сделалась. И так незаметно, так неуловимо. Как? Когда? Теперь ее милая спинка совсем горбатенькая, словно водопроводный кран, прежде чудесные черные волосы совершенно белые, реденькие. И почти постоянно недужит. Впрочем, как только почувствует себя хоть немножко получше, сразу возвращаются ее прежняя энергия и напор…
Увы, никто из нас не молодеет… Моя огромная борода тоже сильно поседела. Теперь на улице какой-нибудь простодушный зевака толкает локтем приятеля и, показывая на меня, восклицает:
– Гляди, гляди! Вылитый Маркс и Энгельс!
Вот проклятая борода! Сбрить ее, негодную, что ли?
Не так давно меня почтили визитом местные власти и предупредили, что если ко мне не прекратится это нашествие народа, меня могут арестовать. Мягко сказать, требование странное. Как, интересно, я могу воспретить людям приходить ко мне за советом и помощью?
У нас дома теперь благодать благодатная! Как будто сияние небесное, всё расцвечено, словно райскими красками: алым, золотым, голубым. Какая бы ни была погода за окошком, всегда прекрасно, тепло – и этот чудесный свет! Как будто сам воздух раскрашен и сияет… А всё потому, что все стены у нас теперь сплошь в иконах, люди несут и несут, непрестанно. Говорят, «на хранение». Хоть на время. Боятся теперь держать их дома, вот как. Теперь уж даже не помним, кто какую принес. Но каждая, по-своему, изумительно чудотворная – как бы смотрит по-особому среди многих других, висящих по стенам. А самая последняя, вроде самописной, – изумительная-преизумительная – как раз изображает всех наших семейных небесных защитников-покровителей: Апостола Андрея, Фотинию Палестинскую, Михаила Архангела, Анну Селевкийскую, святого Валентина и Марию Египетскую… Вечером, когда душа дрожит от переполняющих ее тяжелых и смурных чувств, как хорошо помолиться, почитать каноны перед чудесной иконой! И обязательно снисходит утешение. Хоть капельку.
Увы, увы, нет сейчас мира на душе. Всё говорит о том, что развязка близится.
Буквально на следующий день приходит наша знакомая, расстроенная чем-то, со слезами на глазах. Рассказывает шепотом, что давеча ее сестра, служащая машинисткой в канцелярии НКВД, перепечатывала бумагу, касающуюся меня. Дрожащей рукой протягивает листок-копию, и я пробегаю его глазами:
«Такой-то и такой-то… Проживающий по адресу… злостный религиозный фанатик… По месту жительства собрал постоянный кружок заговорщиков, замышляющих воображенное выступление против советской власти. Печатает антисоветские прокламации и листовки, призывающие к восстанию, также и в стихах. Ведет обширную переписку с другими антисоветскими элементами по всей стране. На повестке дня имеет место вооруженный мятеж против советской власти… Выдает себя за святого и угодника, чтобы таким образом наладить сообщение с другими членами бандитской шайки для подготовки восстания… Будучи непримиримым врагом советской власти, данный калечный гражданин…»
– Подумать только, какая баснословная ахинея! – говорю я. – В жизни не слышал подобного бреда! Они там или пьяные или вовсе ума лишились.
Порвав листок на мелкие кусочки, поспешно отправляю их в печку, чтобы женушка не успела увидеть. Пытаюсь также, как только возможно, успокоить перепуганную женщину.
Ну вот, маменька опять хворает тяжко, жалуется, что всё тело нестерпимо болит. Пытаюсь как-то отвлечь бедняжку.
– Не может того быть, чтобы прямо всё болело, – говорю ей. – Я имею в виду, что сразу всё болеть не может, милая маменька… Что, уши болят? – Маменька прислушивается к себе. Отрицательно мотает головой. – Уши ведь не болят?.. Вот видите, не болят!.. А пятки?.. Не болят?.. – Маменька качает головой. – Вот, то-то и оно! Хоть что-то не болит. Уже легче, правда?
– Легче, легче! – охотно соглашается милая маменька, прыская со смеху и одновременно морщась от боли.
Как бы то ни было, ей действительно становится немножко легче.
Сегодня приходил фотограф, один из наших друзей. Фотографировал нас с женушкой. Мой фотопортрет вышел прямо-таки капитально эпическим: на нем я и правда вылитый основатель-основоположник.
А вот весна гнилая, гаже некуда. Дома все нездоровы. А мне что-то совсем плохо. На этот раз простыл не на шутку. Кашель раздирающий. И всё не идет из головы, что и моего папеньку погубил кашель. Временами уж и не знаю, на каком свете нахожусь.
Но в больничку ни за что не хочу. Тем не менее, домашние, совершенно отчаявшись, все-таки посылают за врачом.
Приходит доктор, жутко пахнущий хлоркой. Осмотрев меня, многозначительно смотрит на мою женушку и выходит из комнаты. Она за ним. Отчетливо слышу, как он говорит за дверью:
– Вы что, хотите положить его в больницу?
– Ой, не знаю, – слышится писк женушки.
– Прекрасно, – говорит врач. – У них он сгниет заживо.
– Нет!
– Вот и пусть остается где есть.
И доктор оказывается совершенно прав: уже не следующий день чувствую себя вполне сносно.
С утра пораньше заходит Сережа. Слава Богу, хоть у него вид энергичный, бодрый. Показываю ему бутылочку с афонским елеем. Даже откупориваю пробочку, чтобы он обонял чудесный аромат.
– Вот, – говорю, – самый лучший. Понюхай! Пахнет цветущей сиренью, а?
Сережа вежливо подносит нос к бутылочке и нюхает.
– Чудесно пахнет, – соглашается он.
– Еще бы!.. Заранее припас. Здоровье совсем плохое. Чтобы, по традиции, в гробу полили…
– Что ты, что ты! – поспешно вскрикивает он.
– Но теперь, – продолжаю я, – скорее всего, зря приготовил…
– Ну конечно! Ты скоро поправишься!
Нет, только хуже. Теперь и дышу, как через войлок. А моя тяжелая, «основоположническая» борода начинает душить. В конце концов приходится с ней расстаться. Женушка обстригает и выбривает меня. Теперь я полностью выскоблен, словно старый таз. Весь в ссадинах, помазанных йодом. И на день-другой действительно становится легче. Потом… еще хуже.