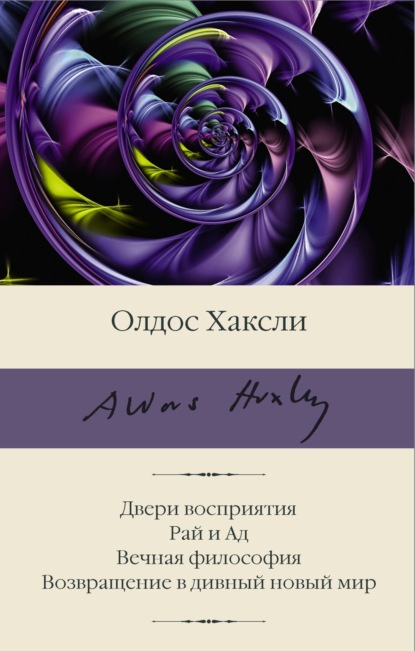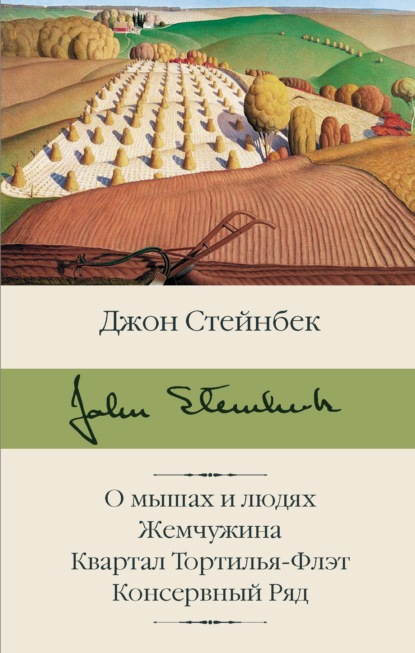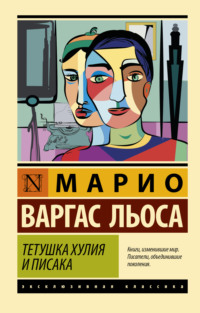Полная версия
Город и псы. Зеленый Дом
– Не хочет. Не хочет пес петь.
И тогда все рожи раскрыли рты и стали плевать в него, пока ему не пришлось закрыть глаза. Когда обстрел кончился, тот же безымянный, винтом вгрызающийся голос произнес:
– Пой сто раз «я пес» под корридо.
На этот раз получилось: он хрипло запел на мелодию «Там, на ранчо», что было непросто – лишенная оригинального текста, мелодия временами срывалась на визг. Но внимательным слушателям, кажется, нравилось.
– Хватит, – велел голос, – а теперь как болеро.
Потом он спел мамбо и креольский вальс. Потом ему приказали заткнуться.
Он встал на ноги и утерся ладонью. Отряхнул штаны сзади. Голос спросил:
– Разве кто-то разрешал морду вытирать? Никто не разрешал.
Рты вновь раскрылись, и он машинально зажмурился до конца атаки. Голос сказал:
– Перед тобой, пес, два кадета. Встань-ка смирно. Вот так. Они заключили пари, а ты у них будешь судьей.
Тот, что справа, ударил первым. Предплечье Рабу как огнем обожгло. Тот, что слева, нанес удар долей секунды позже.
– Ну, – сказал голос, – кто сильнее?
– Слева.
– Ах так? – раздался изменчивый голос. – Это что получается, я бить не умею? Попробуем еще раз, будь повнимательней.
Раб от удара пошатнулся, но не упал – руки окруживших его поддержали и вернули на место.
– А теперь? Кто сильнее бьет?
– Одинаково.
– То есть ничья, – рассудил голос. – Придется продолжать до перевеса.
Через минуту неутомимый голос поинтересовался:
– Кстати, пес. Руки болят?
– Нет.
Они и вправду не болели: он утратил ощущение собственного тела и времени. Его дух в упоении созерцал спокойную гладь моря в Этене, мама говорила: «Осторожнее со скатами, Рикардито» – и протягивала к нему ласковые руки. Солнце жарило вовсю.
– Вранье, – сказал голос, – если не болят, чего ревешь, пес?
Он подумал: «Закончили, наверное». Но они только начали.
– Ты пес или человек? – спросил голос.
– Пес, господин кадет.
– Тогда почему на ногах стоишь? Псы на четвереньках ходят.
Он нагнулся, поставил ладони на пол. Предплечья отчаянно засаднило. Он встретился глазами с другим мальчишкой, тоже стоящим на четвереньках.
– Так, – сказал голос, – когда псы на улице встречаются, что они делают? Отвечай, кадет. К тебе обращаюсь.
Раб получил пинок в зад и быстро ответил:
– Не знаю, господин кадет.
– Дерутся, – пояснил голос. – Облаивают друг дружку и дерутся. Кусаются даже.
Раб не помнит лица того мальчика, который проходил крещение вместе с ним. Наверное, он был из одного из последних взводов – совсем маленький. Его всего перекосило от страха, и, как только голос умолк, он налетел на Раба, лая и пуская пену изо рта, и вдруг Раб почувствовал на плече укус бешеной собаки, и тогда его тело ответило, и он тоже залаял и начал кусать и чувствовал, что его кожа покрылась жесткой шерстью, лицо превратилось в остроконечную морду, а по бокам, словно кнутом, бьет хвост.
– Хватит, – сказал голос, – ты выиграл. А вот мелкий нас обманул. Он не пес, он сучка. А знаете, что происходит, когда кобель и сучка встречаются на улице?
– Нет, господин кадет, – ответил Раб.
– Лижутся. Обнюхиваются и лижутся.
Потом его вытащили из казармы и погнали на стадион, и он не мог вспомнить, было светло или уже стемнело. Там его раздели, и голос приказал плыть на спине по беговой дорожке вокруг футбольного поля. Потом вернули в казармы четвертого курса, и там он застелил множество постелей, пел, танцевал, взобравшись на шкафчик, подражал киноартистам, начистил несколько пар ботинок, вылизал языком плитку на полу, совокуплялся с подушкой, пил мочу, но все это представало лихорадочным бредом, и вот он уже в своем взводе, лежит на койке и думает: «Я точно сбегу отсюда. Прямо завтра». В казарме было тихо. Пацаны переглядывались и вели себя серьезно, церемонно – и не скажешь, что совсем недавно их били, на них плевали и мочились, раскрашивали им лица. В тот вечер после отбоя родился Круг.
Все лежали, но никто не спал. Горнист только что ушел со двора. Вдруг темная фигура спрыгнула с койки, прошлепала через казарму и исчезла в уборной; створчатые двери еще долго раскачивались. Послышались звуки рвотных позывов, а потом на удивление громкой рвоты. Почти все повскакали и босиком кинулись в уборную: высокий тощий Вальяно стоял в центре желтоватой комнаты, прижимая руки к животу. Они не подошли, издали смотрели на искаженное спазмами черное лицо. Наконец Вальяно подошел к раковине и вытер рот. Тогда все в страшном возбуждении сбивчиво заговорили разом, понося четверокурсников последними словами.
– Так больше нельзя. Надо что-то делать, – сказал Арроспиде. Его белое лицо выделялось на фоне прочих – медных, угловатых. Сжатые кулаки дрожали от злости.
– Давайте позовем этого, как его, Ягуара, – предложил Кава.
Они впервые слышали эту кличку. «Кто это? Он из взвода?»
– Да, – сказал Кава. – Он лежит. Первая койка от толчка.
– А зачем Ягуар? – спросил Арроспиде. – Нас, что ли, мало?
– Нет, – сказал Кава, – дело не в этом. Он не такой, как все. Его не крестили. Я сам видел. Он им просто не дался. Его отвели на стадион вместе со мной, ну, туда, за казармы. И он скалился им прямо в рожи и говорил: «Крестить, значит, меня будете? Ну, ну, посмотрим». Прямо в рожи им смеялся. А их человек десять было.
– И чего? – спросил Арроспиде.
– Они, такие, удивились. Человек десять их было, говорю. Но только поначалу. На стадионе еще подошли, двадцать или больше, до хрена четвертых. А он все ржет и ржет: «Крестить меня удумали? Вот и отлично».
– И чего? – спросил Альберто.
– «Чо, страх потерял, пес?» – это они ему. И тогда он на них как набросился. И все смеется. А их человек десять или двадцать, а то и больше. И они не могли его ухватить. Некоторые сняли ремни и стегали, но так, издалека, а близко не подходили, я сам видел. И вот вам крест, они зассали, многие попадали, за яйца держась или с разбитой мордой. А он все смеялся и кричал: «Крестить меня, значит, удумали? Отлично, отлично!»
– А почему ты его зовешь Ягуаром? – спросил Арроспиде.
– Это не я. Это он сам так назвался. Они его окружили, а про меня забыли. И грозили ему ремнями, а он давай их поливать, и их, и мамок их, и вообще всех. А потом один говорит: «Этому безбашенному нужно Гамбарину привести». И позвали такого шкафа тупорылого, он сказал, он тяжелоатлет.
– А зачем позвали? – спросил Альберто.
– Ну так почему его называют Ягуаром-то? – спросил Арроспиде.
– Чтобы они подрались, – сказал Кава. – Они ему говорят: «Эй, пес, раз ты такой храбрый, вот тебе противник твоего веса». А он им отвечает: «Меня зовут Ягуар. Не зовите меня псом, а то поплатитесь».
– А они чего? Ржать? – спросил кто-то.
– Нет. Они освободили им место. Ржал он. Даже когда дрался, ржал.
– И чего? – спросил Арроспиде.
– Они недолго дрались, – сказал Кава, – и я понял, почему его называют Ягуаром. Он очень ловкий, прямо охрененно ловкий. Вроде не такой уж сильный, но вертлявый, как будто маслом обмазанный. У Гамбарины аж глаза повылазили, так он старался его ухватить, да все без толку. Он его и башкой, и ногами, и так и сяк – и ничего. И тогда Гамбарина говорит: «Хватит упражняться, устал я». Но мы все видели, что он с ног валится.
– И чего? – спросил Альберто.
– И ничего. Они его отпустили и занялись мной.
– Зови его, – сказал Арроспиде.
Они кружком сидели на корточках и курили. Один закуривал, затягивался и передавал другому. В уборной повис дым. Когда следом за Кавой вошел Ягуар, всем стало ясно, что Кава преувеличил: по скулам, подбородку и широкому бульдожьему носу было видно, что его били. Он стал посреди круга. Из-под длинных светлых ресниц смотрели необыкновенно голубые жесткие глаза. Рот кривился в деланой гримасе; нахальная поза и расчетливая медлительность, с которой он переводил взгляд с одного из собравшихся на другого, тоже были нарочитыми. Как и внезапный неприятный смех, прогремевший по всей комнате. Но никто его не прервал. Все замерли и ждали, пока он насмотрится и досмеется.
– Говорят, крещение идет целый месяц, – сказал Кава. – Нельзя каждый день терпеть такое.
Ягуар кивнул.
– Да, – сказал он, – нужно защищаться. Мы отомстим четвертым, они дорого заплатят за свои штучки. Главное – запоминать лица и по возможности взводы и фамилии. По одному больше не ходим. Собираемся вечерами, после отбоя. И надо придумать название.
– Ястребы? – робко предложил кто-то.
– Нет, – возразил Ягуар, – а то похоже на какую-то игру. Назовемся Круг.
Занятия начались на следующий день. На переменах четверокурсники набрасывались на псов и устраивали гусиные бега: десять-пятнадцать человек выстраивались в ряд, ставили руки на пояс, приседали на корточки и по команде пускались вперед с громким гаканьем. Проигравшие подвергались прямому углу. Кроме того, псов обыскивали и отбирали деньги и сигареты, а также заставляли залпом, держа стакан зубами, выпивать смесь оружейной смазки, постного масла и жидкого мыла. Круг заработал через два дня, после завтрака. Все три курса одновременно выходили из столовой и пятном расползались по пустырю. Вдруг на непокрытые головы обрушился град камней, и один четверокурсник с криком повалился на землю. Уже построившись, они увидели, как товарищи на плечах тащат его в медпункт. Следующей ночью на дежурного-четверокурсника, спавшего в траве, напали тени в масках: на рассвете горнист обнаружил его голым, связанным, замерзшим до полусмерти и всего в синяках. В кого-то метали камни, кому-то устраивали темные. Самая смелая вылазка – на кухню, чтобы вылить несколько пакетов дерьма в котлы с супом, предназначавшиеся четвертому курсу, – многих отправила в медпункт с коликами. Доведенные до ручки нападениями неизвестных, четверокурсники упорно и остервенело продолжали крещение. Круг собирался вечерами, обсуждал разные проекты, Ягуар выбирал один, совершенствовал его и давал указания. Все пребывали в таком возбуждении, что месяц без увольнительных пролетел мигом. К тревогам из-за крещения и операций Круга вскоре добавилась еще одна: предстояло первое увольнение, и им начали шить синюю форму. Офицеры ежедневно по часу разъясняли, как кадету в форме подобает вести себя в городе.
– На форму, – мечтательно говорил Вальяно, вращая глазами, – телочки, как на мед, слетаются.
«Было не так тяжело, как рассказывают, хотя тогда казалось тяжко, а уж когда Гамбоа зашел в толчок после отбоя – и вовсе особый случай, и все равно тот месяц нельзя сравнивать с воскресеньем, когда лишили увольнительной, нельзя». В такие воскресенья третий курс властвовал над училищем. В полдень показывали кино, а после обеда их навещали родные – псы прогуливались по плацу, пустырю, стадиону и дворам в окружении благоговейных посетителей. За неделю до первого увольнения они примерили выходную форму: синие брюки, черный китель с золотыми пуговицами, белая фуражка. Волосы отрастали быстро, под стать стремлению к свободе. «А как он прознал? Случайно или кто-то стукнул? А если бы Уарина в тот день дежурил или лейтенант Кобос? Да, по крайней мере, не так быстро, думаю я, не прознай он про Круг, наш взвод не превратился бы в клоаку, до сих пор процветали бы или, по крайней мере, ссучились бы не так быстро». Ягуар стоял посередине и описывал внешность одного четверокурсника, взводного. Остальные, как обычно, слушали, сидя на корточках; хабарики переходили из рук в руки. Дым воспарял к потолку, спускался обратно и плавал по комнате, словно полупрозрачный, изменчивого вида монстр. «Да что он сделал-то, Ягуар, нечего нам грех на душу брать», – говорил Вальяно, «Помстили и хватит», – говорил Ариосте, «Не нравится мне, что он и окриветь может от такого», – говорил Пальяста, «Сами напросились», – говорил Ягуар, «Ну и хорошо, что попортим его, да что он сделал-то, с чего все началось – дверь хлопнула, или он сразу заорал?» Видимо, лейтенант Гамбоа распахнул дверь обеими руками или ногой, и кадеты остолбенели, но не от удара об дверь и не от крика Арроспиде, а от того, что застоявшийся дым вдруг стал утекать сквозь темную брешь дверного проема, почти заполненного фигурой Гамбоа, придерживавшего створки. Дымящиеся хабарики полетели на пол. Все были босиком и не решались затушить. Смотрели прямо перед собой, старались напустить воинственный вид. Гамбоа затоптал окурки. Потом пересчитал кадетов.
– Тридцать два, – сказал он. – Весь взвод. Кто командир?
Арроспиде выступил вперед.
– Расскажите мне подробно про эту игру, – спокойно сказал Гамбоа. – С самого начала. И ничего не упускайте.
Арроспиде искоса поглядывал на товарищей, а лейтенант Гамбоа ждал, недвижимый, как дерево. «Что с того, что он ему плакался? В конце концов, мы все, считай, что его дети, потом и все начали плакаться, какой позор, господин лейтенант, вы не представляете, как они нас крестили, разве мужчины не должны защищаться? Какой позор, они нас били, господин лейтенант, издевались, обзывали, посмотрите, на что похожа задница Монтесиноса, это все от прямых углов, а он все молчит, какой позор, а он ничего не говорит, только так, что еще, конкретные факты, без лишних комментариев, по одному и не шумите, другие взводы перебудите, какой позор, а как же устав, и давай наизусть нам шпарить из устава, отчислить бы вас всех, но армия терпима и понимает щенков, которые пока не знают, что такое военная жизнь, уважение к старшим по званию и товарищеский дух, игре вашей конец, так точно, господин лейтенант, на первый раз прощается, донесение писать не буду, так точно, господин лейтенант, но первого увольнения вы лишаетесь, так точно, господин лейтенант, может, возмужаете малость, так точно, господин лейтенант, предупреждаю: еще раз такое повторится, и я до самого Совета офицеров дойду, так точно, господин лейтенант, и устав затвердить наизусть, если хотите в следующую субботу выйти в город, а сейчас всем спать, а дежурным на посты, через пять минут доложить, так точно, господин лейтенант».
Больше Круг не собирался, хотя потом Ягуар так назвал свою шайку. В ту субботу, первого июня, весь взвод выстроился вдоль ржавой ограды и наблюдал, как псы из других взводов величественным потоком гордо выливаются на набережную, как она пестрит их чистенькой формой, белоснежными фуражками, надраенными кожаными ботинками, как они толпятся у изъеденного земляного вала, за которым рокочет море, на остановке автобуса Мирафлорес – Кальяо или прямо по шоссе спешат к Пальмовому проспекту и оттуда – к проспекту Прогресса (который рассекает поля и огороды и ведет в Лиму через Бренью, а в противоположном направлении пологим широким склоном сбегает к Бельявисте и Кальяо), как они теряются из виду, и когда на влажном от тумана асфальте никого не осталось, они все еще прижимались носами к прутьям. Потом протрубил горн к обеду, и они побрели к своей казарме прочь от героя, созерцавшего слепыми зрачками ликование ушедших и тоску оставшихся, исчезающих меж корпусов свинцового цвета.
В тот же день, когда они под томным взглядом викуньи выходили из столовой, во взводе случилась первая драка. «Я бы дался? Вальяно бы дался? Кава бы, Арроспиде, кто? Никто, только он, потому что Ягуар не бог, и тогда все было бы по-другому, если бы ответил, все по-другому, если бы стал драться, схватился за палку или камень, по-другому, даже если бы убежал, убегай, но не дрожи, вот уж этого никак нельзя». Они толпой спускались по лестнице, как вдруг случилось что-то непонятное и двое, пихая друг дружку ногами, полетели в траву. Там они встали; тридцать пар глаз уставились на них с лестницы, как с трибун. Никто не успел вмешаться, даже толком понять, что происходит, потому что Ягуар извернулся, как кот, и врезал противнику прямо по лицу, без предупреждения, а потом рухнул на него и принялся бить по голове, по лицу, по спине; остальные видели только молотившие поверженного кулаки и даже не слышали его криков: «Прости, Ягуар, я тебя случайно толкнул, клянусь, это случайно вышло». «На колени не надо ему было падать, вот что. И руки складывать, а то похоже было, как моя мамка молится или вот как пацаненок в церкви на первом причастии, а Ягуар будто епископ, и он ему исповедуется, как вспомню, – говорил Роспильози, – так мороз по коже». Ягуар стоял, презрительно смотрел на коленопреклоненного и все еще держал кулак на отлете, как будто готовился снова влепить в иссиня-бледное лицо. Никто не шевелился. «Ты мне противен, – сказал Ягуар. – Достоинства в тебе нет. Одно слово – раб».
– Восемь тридцать, – говорит лейтенант Гамбоа. – Осталось десять минут.
В классе то тут, то там кто-то коротко фыркает, хлопают крышки парт. «Пойду покурю в уборной», – думает Альберто, подписывая работу. В эту минуту к нему на парту прилетает бумажный шарик, прокатывается несколько сантиметров и, натолкнувшись на его руку, останавливается. Прежде чем взять его, Альберто оглядывается вокруг. Потом поднимает глаза: лейтенант Гамбоа ему улыбается. «Заметил?» – проносится в голове у Альберто, он вновь опускает взгляд, и тут лейтенант говорит:
– Кадет, передайте мне, пожалуйста, то, что приземлилось сейчас к вам на парту. Остальные – тишина!
Альберто встает. Гамбоа берет бумажный шарик не глядя. Разворачивает и поднимает повыше, чтобы посмотреть на просвет. Читает, и глаза его, словно два кузнечика, скачут от бумажки к партам.
– Вы знаете, что здесь написано, кадет? – спрашивает Гамбоа.
– Никак нет, господин лейтенант.
– Формулы из ответов на вопросы экзамена. Интересно, правда? Вы знаете, кто сделал вам такой подарок?
– Никак нет, господин лейтенант.
– Ваш ангел-хранитель, – говорит Гамбоа. – Знаете, кто он?
– Никак нет, господин лейтенант.
– Сдайте мне экзамен и садитесь, – Гамбоа рвет листок и бросает белые клочья на стол. – У ангела-хранителя, – говорит он, – есть тридцать секунд, чтобы встать.
Кадеты переглядываются.
– Пятнадцать секунд прошло, – говорит Гамбоа. – Осталось пятнадцать.
– Это я, господин лейтенант, – отвечает нетвердый голос.
Альберто поворачивается: Раб встал на ноги. Он совсем побледнел и как будто не слышит смешков остальных.
– Имя, фамилия, – говорит Гамбоа.
– Рикардо Арана.
– Известно ли вам, что экзамены сдаются каждым кадетом самостоятельно?
– Так точно, господин лейтенант.
– Хорошо. Значит, вам, вероятно, известно также, что я вынужден лишить вас увольнения в эти выходные. Такова армия, тут ни с кем не споешься, даже с ангелами, – он смотрит на часы и добавляет: – Время истекло. Сдать работы.
III
Я учился в школе имени Саенса Пеньи и после уроков возвращался в Бельявисту пешком. Иногда перекидывался парой слов с Игерасом, приятелем моего брата, они дружили до того, как Перико забрали в армию. Он все спрашивал: «Что слышно от брата?» «Ничего, с тех пор, как в сельву отправили, так и не пишет». «Торопишься, что ли? Постой, потолкуем». Я хотел поскорее вернуться в Бельявисту, но Игерас старше меня, и мне приятно было, что он говорит со мной, как с ровесником. Мы с ним шли в кабак, и он спрашивал: «Что будешь?» «Не знаю, все равно, то же, что и ты». «Ладно, – говорил Тощий Игерас. – Китаец, две маленьких!» И хлопал меня по плечу: «Смотри, не окосей». От писко[7] у меня драло горло, а глаза слезились. Он говорил: «На, лимоном закуси. Так оно мягче идет. И покури». Мы говорили про футбол, про школу, про моего брата. Он мне много чего рассказал про Перико, которого я считал тихоней, а он, оказывается, был тот еще боевой петух, как-то раз подрался на ножичках из-за одной бабы. Да и вообще, кто бы мог подумать, бабник. Когда Игерас рассказал, что он обрюхатил одну девицу, и их чуть силой не поженили, я только что со стула не упал. «Да, у тебя племяш есть, года четыре ему. Ты, считай, старик, понимаешь?» Но я недолго с ним засиживался, скоро начинал искать предлог, чтобы улизнуть. Когда подходил к дому, очень волновался: если мать что унюхает, я со стыда сгорю. Я доставал учебники и говорил: «Пойду уроки поучу», а она даже не отвечала, только кивала, а иногда и не кивала даже. Дом по соседству был больше нашего, но тоже очень старый. Перед тем как постучать, я докрасна тер руки, но они все равно потели. Иногда открывала Тере. Тогда я приободрялся. Но почти всегда выходила ее тетка. Она дружила с моей матерью, но меня не любила, говорят, когда я был мелкий, все время ее доставал. Она меня впускала и буркала: «Занимайтесь в кухне, там света больше». Мы делали уроки, а тетка готовила, и по всей кухне пахло луком и чесноком. Тере все делала очень аккуратно, я даже восхищался, как у нее обернуты все тетрадки и учебники, а почерк меленький и ровный, и заголовки она подчеркивала двумя цветами. «Художницей будешь», – говорил я, чтобы ее рассмешить. Но она и так смеялась, стоило мне рот раскрыть, и ее смеха мне не забыть. Взаправду смеялась, вовсю, еще и в ладоши хлопала. Иногда я встречал ее по дороге из школы, и сразу было ясно, что она не похожа на других девчонок – никогда не ходила растрепанной или с кляксами на руках. Больше всего мне в ней нравилось лицо. Ноги у нее были стройные, а грудь еще не выросла – или выросла, но я никогда не думал про ее ноги или про грудь, только про лицо. По ночам, если я терся в постели и вдруг вспоминал ее, мне становилось стыдно, и я шел пописать. Но зато мне все время хотелось ее поцеловать. Стоило закрыть глаза, я тут же видел ее и нас обоих, взрослыми и женатыми. Мы занимались каждый день, по два часа, иногда и дольше, и я всегда врал: «У меня куча уроков», чтобы нам подольше посидеть в кухне. Правда, я ей говорил: «Если ты устала, я пойду домой», но она никогда не уставала. В тот год я нахватал отличных оценок, учителя меня любили, ставили в пример, все время вызывали к доске, назначали старостой, а одноклассники дразнили зубрилой. Я с ними не очень дружил, так, разговаривал на уроках, но после школы сразу прощался. Кореш у меня был один – Игерас. Он всегда ошивался на углу площади Бельявиста и, завидев меня, тут же подходил. Я тогда думал только о том, чтобы скорее наступило пять часов, а воскресенья ненавидел. Потому что по субботам мы учились, а по воскресеньям Тере с теткой ездили в Лиму навестить родственников, а я целый день сидел дома или ходил в центр досуга Потао смотреть матчи второго дивизиона. Мать никогда не давала мне денег и вечно жаловалась, какая маленькая пенсия осталась от отца. «Нет ничего хуже, – говорила она, – чем тридцать лет прослужить государству. Потому что нет никого неблагодарнее государства». Пенсии хватало только на еду и счета за жилье. Я раньше бывал в кино с одноклассниками, но в том году ни разу не ходил даже на галерку, ни на футбол, вообще никуда. А вот в следующем году у меня стали водиться деньги, но я здорово скучал по тому, как мы с Тере каждый вечер учили уроки.
Лучше, чем с курицей и мелким из другого взвода, была заварушка в кино. Тихо, Недокормленная, потише зубами. Гораздо лучше. Это мы еще на четвертом были, и хотя уже год прошел с тех пор, как Гамбоа покончил с Кругом, Ягуар по-прежнему говорил: «Однажды все они хвосты подожмут, а мы вчетвером будем главными». Вышло даже лучше, чем раньше, потому что, когда мы ходили в псах, в Круге состоял взвод, а в тот раз получилось, как будто в Круге был весь курс, а командовали мы и больше всех – Ягуар. И когда тот пес сломал палец, заметно было, что весь взвод с нами, нас поддерживает. «На лестницу, пес, – говорил Кучерявый, – бегом, а то рассержусь». Как же он на нас смотрел! «Господа кадеты, у меня от высоты голова кружится». Ягуар корчился от смеха, а Кава обозлился: «Ты хоть знаешь, с кем шутки шутишь, пес?» Лучше бы он вправду не лез на лестницу, так он трясся. «Лезь, пацан, лезь», – сказал Кучерявый. «А теперь пой, – сказал Ягуар, – только красиво, как артист, и руками маши». Он вцепился в лестницу, будто обезьяна, а та так и ходила ходуном по полу. «А если я упаду, господа кадеты?» – «Ну и упадешь», – сказал я. Он, дрожа, распрямился и запел. «Сейчас шею свернет», – говорил Кава, а Ягуар заходился со смеху. Не так уж сильно он упал, я на полевых с большей высоты падал. И чего только за раковину схватился? «Вроде палец сломал», – сказал Ягуар, когда из руки кровь полилась. «Все оштрафованы на месяц, – говорил капитан, – а если не найдутся виновные – и дольше». Во взводе все вели себя паиньками, а Ягуар им говорил: «Чего же вы не хотите опять в Круг, если такие крутые?» Псы нам попались очень робкие, вот что плохо. Куда лучше крещения были драки с пятыми, в жизни не забуду тот год, особенно кино. Началось все с Ягуара, а я сидел рядом, так чуть хребет не переломили. Псам повезло, мы их в тот раз почти не трогали, слишком заняты были с пятыми. Месть – штука сладкая, никогда мне так хорошо не было, как когда на стадионе передо мной оказался тот говнюк, который меня крестил. Нас чуть не исключили, но оно того стоило, честное слово. Третий с четвертым – это так, цветочки; настоящая война – у четвертого с пятым. Кто ж забудет, как они нас крестили? А в кино нас посадили между пятыми и псами нарочно, чтобы заварушка началась. С пилотками – это Ягуар придумал. Если подходит пятый, я подношу руку к голове, как будто сейчас честь отдам, он мне честь отдает, а я снимаю пилотку. «Это что еще такое?» «Это я, господин кадет, затылок чешу, перхоть мучает». Шла война, ясно было как день – по тому случаю с канатом, и еще раньше, в кино. Такая жара в зале стояла, хоть и зима, – оно и понятно: цинковая крыша, больше тысячи человек набилось, да мы там изжарились. Я не видел его лица, когда мы вошли, только голос слышал – и зуб даю, он был индеец, с гор. «Тесновата жердочка для моей жопы», – говорил Ягуар, он сидел с краю, а Поэт брал с кого-то плату: «Ты думал, я бесплатно работаю, за твои красивые глаза?», свет уже погасили, и на Поэта шикали: «Заткнись, а то влетит». Вряд ли Ягуар нарочно подложил кирпичи, чтобы ему обзор закрыть, – просто сам хотел лучше видеть. Я нагнулся и зажигал спичку, а когда пятый начал возмущаться, сигарета у меня выпала, я сполз под скамейку, а тут и все зашевелились. «Эй, кадет, кирпичи убери с сиденья, фильм хочется посмотреть». «Это вы мне?» – спросил я. «Нет, ему». «Мне?» – спросил Ягуар. «Кому ж еще?» «Сделайте одолжение, – сказал Ягуар, – заткнитесь и дайте мне спокойно посмотреть на ковбоев». «Не уберешь кирпичи?» «Думаю, нет», – сказал Ягуар. Тогда я сел обратно, плюнул на сигарету, кто ее там найдет. Тут жареным пахнет, лучше быть готовым. «Не слушаешься, значит?» – спросил пятый. «Нет, – сказал Ягуар, – с чего бы?» От души над ним прикалывался. Поэт затянул: «Ох, ох, ох», а за ним и весь взвод. «Совсем страх потерял?» – спросил пятый. «Кажется, да, господин кадет», – сказал Ягуар. Махач в потемках, о таком песни сложат, махач в потемках в актовом зале, виданное ли дело? Ягуар говорит, что ударил первым, но я-то помню. Первым ударил пятый. Или какой-то его дружок пришел на выручку. И еще злобно так. Попер на Ягуара, как бешеный, а уж крик поднялся – у меня аж барабанные перепонки заболели. Все повскакали, надо мной какие-то тени, кто-то меня пинал. Фильм вообще не помню, он только начался. А Поэта, интересно, вправду месили или он понарошку орал? И еще слышно было, как вопит лейтенант Уарина: «Свет, сержант, свет! Оглохли вы, что ли?» И псы тоже давай вопить: «Свет, свет!», они не врубались, что происходит; я боялся, сейчас на нас оба курса набросятся под шумок-то. Весь пол засыпали сигаретами, каждый хотел от них избавиться – еще не хватало, чтобы за куревом застукали, чудом пожара не случилось. Вот это драка была, люди! Ни одного неподбитого не осталось, взяли мы реванш. Не знаю, блин, как Ягуар выжил. Тени все на меня наваливались и наваливались, у меня уже руки и ноги заболели, так я отбивался – наверняка и кого-то из четвертых приложил, кто там разберет в этой темнотище. «Включите уже долбаный свет, сержант Варуа! – орал Уарина. – Они же друг друга поубивают, скоты!» Отовсюду сыпалось, что правда, то правда, хорошо еще, никого не попортили. Свет зажгли, засвистели, как полоумные. Уарины было не видать, а лейтенанты пятого и третьего и сержанты все оказались на месте. «Разойтись, чтоб вас, разойтись!» – никто и не думал расходиться. Ну, тогда они тоже разъярились и давай колошматить всех подряд, никогда не забуду, как Крыса мне навалял прямым в грудь, я аж задохнулся. Я все искал его глазами, думал, если его покалечили, заплатите, уроды, но вот он, бодрее всех, обеими работает, а сам ржет, жизней у него больше, чем у кошки. А потом все – рот на замок, это мы умеем, если надо лейтенантов с сержантами побесить, ничего не случилось, все друзья, я вообще ни слова не слышал, и пятые – так же, надо отдать им должное. Потом вывели псов, которые так ничего и не поняли, потом – пятых. Мы одни остались в актовом зале и затянули: «Ох, ох, ох». «Я ему в глотку запихал эти кирпичи», – сказал Ягуар. И все заладили: «Пятые злятся, мы их выставили на посмешище перед псами, ночью точно явятся к нам в казармы». Офицеры шныряли вокруг, как мыши, и гундели: «Кто все начал?», «Отвечайте, а то на гауптвахту». Мы их даже на слушали. Они придут, они придут, нельзя, чтобы они застали нас в казармах, выйдем им навстречу, на пустырь. Ягуар стоял у шкафчика, и все его слушали, как когда были псами, и Круг собирался в уборной строить планы мести. Надо защищаться, береженого бог бережет, дежурные пусть идут на плац и смотрят в оба. Как только те появятся, кричите, чтобы мы вышли. Готовьте снаряды, отмотайте туалетной бумаги, сверните и зажмите в кулак, если так бьешь – это будто осел лягает, на носки ботинок приладьте бритвенные лезвия, как шпоры у боевых петухов, в карманы камней наложите, и ракушки не забудьте смастерить, мужчина должен беречь яйца пуще души. Все слушались, а Кучерявый от радости прыгал по койкам, это все равно что Круг, только теперь весь курс замешан, в других казармах тоже готовятся к великой битве. «Блин, камней не хватит, – говорил Поэт, – надо плиток из пола наковырять». И все угощали друг друга сигаретами и обнимались. Легли в форме, некоторые даже в ботинках. Что, идут, идут? Тихо, Недокормленная, не кусайся, зараза ты этакая. Даже собака нервничала, лаяла, скакала, а обычно она такая спокойная, придется тебе, Недокормленная, идти спать к викунье сегодня, мне надо этих охранять, чтобы пятые нас не порвали.