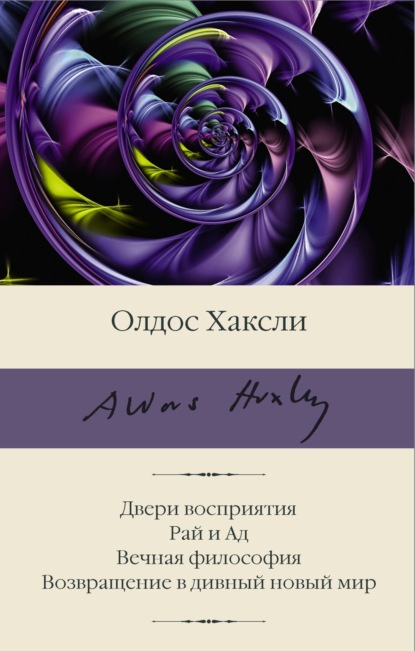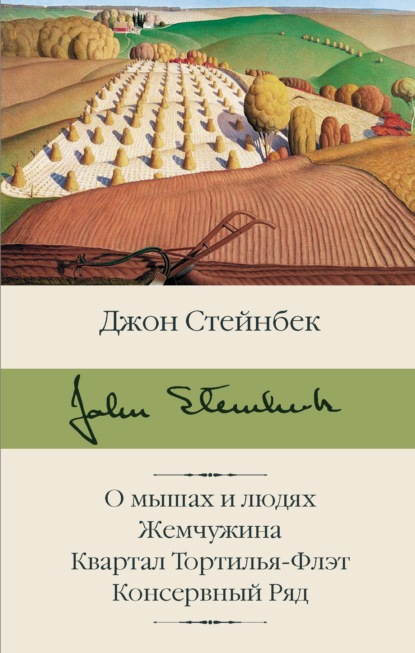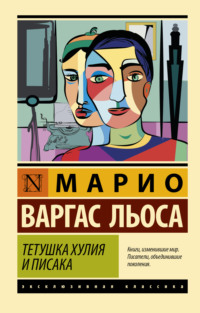Полная версия
Город и псы. Зеленый Дом
II
Когда на рассвете ветер врывается в Ла-Перлу, относит туман к морю, развеивает его, и Военное училище имени Леонсио Прадо проступает четко, как задымленная комната, в которой распахнули окна, безымянный солдат, зевая и тря глаза, появляется на пороге барака и бредет к кадетским казармам. Горн в его руке раскачивается в такт шагам и поблескивает в неясном свете. Солдат входит во двор третьего курса, останавливается посередине, на равноудаленном расстоянии от четырех углов здания. В своей зеленоватой форме, затушеванной последними ошметками тумана, он смахивает на привидение. Постепенно приходит в движение, оживает, потирает руки, сплевывает. Потом дует в горн. Слышит эхо и через несколько секунд – ругательства псов, срывающих на нем злость от того, что ночь кончилась. Под отдаленные чертыхания горнист направляется к казармам четвертого курса. Дежурные последней смены вышли к дверям – они слышали побудку псов и теперь зубоскалят, обзывают горниста, иногда швыряются камнями. Солдат идет к пятому курсу. Он окончательно проснулся и шагает бодрее. Пятый курс не реагирует на горн, поскольку знает, что от подъема до свистка к построению – пятнадцать минут, и половину этого времени можно проваляться в постели. Солдат возвращается в барак, потирая руки и сплевывая. Его не пугают возмущенные псы, хмурые четверокурсники, он их едва замечает. Если только на дворе не суббота. По субботам бывают полевые занятия, и подъем трубят на час раньше, поэтому солдаты боятся дежурить. В пять утра еще глаз коли, и кадеты, пьяные сном и яростью, обстреливают горниста из окон самыми разными снарядами. По субботам горнисты нарушают устав: играют побудку не во дворах, а с плаца, и совсем наскоро.
По субботам пятый курс может валяться всего на две или три минуты дольше положенного, потому что на умывание, одевание, застилание постелей и построение дают восемь минут вместо пятнадцати. Но сегодня необычная суббота. Полевые занятия у пятого курса отменили из-за экзамена по химии. Когда старшие слышат побудку – в шесть, – псы и четвертый курс уже маршируют через ворота училища к пустырю, соединяющему Ла-Перлу с Кальяо.
Через мгновение после подъема Альберто, не открывая глаз, думает: «Сегодня увольнение». Кто-то говорит: «Без четверти шесть. Камнями бы гада закидать». Казарма снова погружается в тишину. Альберто открывает глаза: в окна льется неверный серый свет. «В субботу всегда должно быть солнечно». Дверь уборных открывается: Альберто видит бледное лицо Раба: тот идет по казарме, и с каждой койки несутся ему вслед ругательства. Он причесан и выбрит. «До подъема встает, чтобы первым на построение успеть», – думает Альберто. Закрывает глаза. Раб остановился у его койки и трогает его за плечо. Приоткрывает глаз: голова Раба возвышается над костлявым туловищем, тонущим в синей пижаме.
– Сегодня лейтенант Гамбоа.
– Знаю, – отвечает Альберто, – время есть.
– Ладно. Я думал, ты спишь.
Слабо улыбается и уходит. «Хочет мне в друзья набиться», – думает Альберто. Снова зажмуривается и замирает: мокрая мостовая на улице Диего Ферре блестит; тротуары на Порта и Очаран покрыты листьями, сбитыми ночным ветром; по улице идет элегантный молодой человек и курит «Честерфилд». «Сегодня точно пойду к шлюхам, или я не я».
– Семь минут! – орет Вальяно от двери. Начинается суматоха. Визжат ржавые койки, скрипят дверцы шкафчиков, каблуки ботинок стучат по плиточному полу, тела, касаясь или ударяясь, издают глухой звук, но поверх всего, как языки пламени поверх дыма, прорываются проклятия и брань. Непрерывные, выплескивающиеся изо всех глоток разом, они, впрочем, беззлобны и относятся к таким абстрактным мишеням, как Бог, офицеры и мать, и кадеты ценят в них больше музыку слов, чем смысл.
Альберто соскакивает с койки, надевает носки и ботинки, все еще без шнурков. Чертыхается. К тому времени, когда он заканчивает шнуровать ботинки, большинство уже застелило койки и одевается. «Раб! – кричит Вальяно. – Спой мне! Люблю тебя слушать, когда умываюсь». «Дежурный! – взвывает Арроспиде. – У меня шнурок сперли. Это ты виноват». «Плакало твое увольнение, козел». «Это все Раб, – говорит кто-то. – Честное слово. Я его видел». «Надо сдать его капитану, – предлагает Вальяно, – нам тут воры не нужны». «Ох! – раздается сиплый голос, – негритяночка воров боится». «Ох, ох, ох!» – вторят ему. «Ох, ох, ох!» – гудит вся казарма. «Сукины вы дети», – отвечает Вальяно. И выходит, хлопнув дверью. Альберто оделся. Он бежит в уборные. У соседней раковины причесывается Ягуар.
– Мне нужно пятьдесят баллов по химии, – говорит Альберто, не сплевывая зубную пасту. – Сколько возьмешь?
– Попал ты, поэт, – Ягуар смотрится в зеркало и тщетно старается прилизать волосы: упрямый светлый ежик встопорщивается, как только он убирает расческу. – Нету у нас вопросов. Мы не ходили.
– Не достали?
– Даже не пытались.
Раздается свисток. Кипучий гул в казармах и уборных нарастает и разом обрывается. Во дворе гремит голос лейтенанта Гамбоа:
– Командиры взводов, записать трех последних!
Захлебнувшийся гул снова ширится. Альберто бросается бежать: убирает в карман зубную щетку и гребенку, полотенце оборачивает вокруг талии между рубашкой и курткой. Построение идет полным ходом. Он с разбегу влипает в спину впереди стоящему, сзади кто-то влипает в спину ему. Ухватывает Вальяно за пояс и подскакивает на месте, чтобы вновь прибывающие не пинали по ногам, стараясь расчистить себе место в тесно сбитых кучках кадетов. «Не лапай меня, козлина», – возмущается Вальяно. Мало-помалу выстраиваются более или менее упорядоченные колонны, и взводные начинают пересчитывать личный состав. В хвосте все еще сумятица и перепалки – подоспевшие последними стараются выбить себе место, ругаясь и орудуя локтями. Лейтенант Гамбоа наблюдает построение с конца плаца. Он высокий, крепкий. Фуражка лихо сдвинута на бок; он медленно поворачивает голову из стороны в сторону и насмешливо улыбается.
– Тишина! – кричит он.
Кадеты немеют. Лейтенант стоит подбоченясь, потом разводит руки в стороны и роняет вдоль тела. Шагает к батальону; суховатое, очень смуглое лицо помрачнело. В трех шагах за ним следуют сержанты Варуа, Морте и Песоа. Гамбоа останавливается. Смотрит на часы.
– Три минуты, – произносит он. Обводит строй взглядом, как пастух – стадо. – Псы и те строятся за две с половиной!
По батальону прокатывается волна придушенных смешков. Гамбоа выпячивает подбородок, поднимает брови: мигом становится тихо.
– Я имею в виду, кадеты третьего курса.
Новая волна хихиканий, теперь посмелее. Физиономии у кадетов по-прежнему серьезные, смех зарождается в желудке и умирает у губ, не меняя ни взгляда, ни выражения лица. Гамбоа быстро кладет руку на пояс: вновь тишина, внезапная, как удар ножом. Сержанты завороженно смотрят на него. «Он сегодня в духе», – бормочет Вальяно.
– Командиры – говорит Гамбоа, – доложить состав взводов.
Он подчеркивает последнее слово, произносит его медленно, чуть прикрыв веки. В хвосте раздается вздох облегчения. Гамбоа делает шаг вперед, сверлит глазами колонны неподвижных кадетов.
– И доложить трех последних!
В задних рядах поднимается глухой гул. Взводные шныряют с листочками и карандашами в руках. Строй гудит, как рой насекомых, силящихся вырваться за москитную сетку. Краем глаза Альберто замечает жертв из первого взвода: Уриосте, Нуньес, Ревилья. Слышит, как Ревилья шепчет: «Эй, Макака, тебя все равно на месяц заперли. Что тебе шесть лишних баллов? Уступи место». «Десять солей», – отвечает Макака. «У меня сейчас нету. Хочешь, буду должен?» «Не хочу, пропадай».
– Разговорчики! – кричит лейтенант. Плывущий над рядами гул начинает смолкать и вскоре почти полностью утихает.
– Молчать! – зычно орет лейтенант. – Тишина, чтоб вас!
Его слушаются. Взводные выныривают из рядов, вытягиваются по стойке смирно в паре метров от сержантов, щелкают каблуками, отдают честь. Сдают листочки, говорят: «Разрешите вернуться в строй, господин сержант». Сержант делает знак рукой или отвечает: «Разрешаю». Кадеты легким шагом возвращаются на свои места. Сержанты передают листочки Гамбоа. Лейтенант залихватски щелкает каблуками и отдает честь по-особому: подносит руку не к виску, а ко лбу, так что она почти закрывает правый глаз. Оцепеневшие кадеты наблюдают за перемещениями листочков. Гамбоа складывает из бумажек веер. Почему он не дает команду маршировать? Окидывает батальон лукавым взглядом. И вдруг улыбается.
– Шесть штрафных баллов или прямой угол? – говорит он.
Батальон взрывается аплодисментами. Некоторые выкрикивают: «Да здравствует Гамбоа!»
– Мне послышалось или разговорчики в строю? – удивленно говорит лейтенант. Кадеты умолкают. Гамбоа прогуливается вдоль строя, держа руки на поясе.
– Из каждого взвода, – командует он, – трое последних сюда. Быстро.
Уриосте, Нуньес и Ревилья срываются с места. Вальяно бросает им вслед: «Повезло вам, девочки, что сегодня Гамбоа». Перед лейтенантом они встают навытяжку.
– Что предпочитаете? – спрашивает Гамбоа. – Прямой угол или шесть баллов? Выбирайте.
Все трое отвечают: «Прямой угол». Лейтенант кивает и пожимает плечами. «Я вас как родных знаю», – негромко произносит он. Нуньес, Уриосте и Ревилья благодарно улыбаются. Гамбоа отдает команду:
– Стать в прямой угол!
Три туловища сгибаются в талии, так, чтобы верхняя половина оказалась параллельна земле. Гамбоа внимательно смотрит и локтем немного пригибает голову Ревильи.
– Яйца прикройте, – велит он, – двумя руками.
И делает знак сержанту Песоа, невысокому мускулистому метису с крупным кровожадным ртом. Он отличный футболист и зверски бьет с ноги. Песоа отходит назад, встает немного боком. Молниеносно разбегается и ударяет. Ревилья издает стон. Гамбоа велит ему вернуться в строй.
– Пффф! – говорит он. – Слабеете, Песоа. Он и с места не сдвинулся.
Сержант бледнеет и косо зыркает на Нуньеса. На этот раз он бьет с оттяжкой, носком. Нуньес с криком слетает с позиции, пробегает на неверных ногах пару метров и валится как подкошенный. Песоа искательно вглядывается в лицо лейтенанта. Тот улыбается. Кадеты улыбаются. Нуньес, который успел подняться и потирает зад, тоже улыбается. Песоа снова разгоняется. Уриосте самый дюжий кадет во взводе, а может, и во всем училище. Он немного расставил ноги, чтобы лучше держать равновесие. От пинка он даже не пошатывается.
– Второй взвод, – говорит Гамбоа, – трое последних.
Все взводы проходят через прямой угол. Кадетов из восьмого, девятого и десятого, самых младших, пинки сержантов отправляют до самого плаца. Гамбоа обязательно интересуется у каждого, что тот предпочитает – шесть штрафных баллов или прямой угол. И добавляет: «Вы свободны выбирать».
Альберто сначала следит за процедурой, а потом переключается на попытки вспомнить последние уроки химии. В памяти плавают неясные формулы, обрывочные названия. «А Вальяно, интересно, учил?» Каким-то образом рядом с ним оказывается Ягуар. Альберто шепчет ему: «Ну, хоть часть вопросов продай. Сколько хочешь?» «Ты больной, блин? Я же сказал, нет у нас вопросов. Хватит про это трепаться. Ради твоего же блага».
– Повзводно шагом – марш! – командует Гамбоа.
По мере входа в столовую строй рассыпается; кадеты снимают пилотки и, громко переговариваясь, идут к своим столам. Столы на десять человек, пятый курс занимает ближние к выходу. Когда все три курса оказываются внутри, дежурный капитан дает первый свисток: кадеты встают навытяжку у своих мест. По второму свистку садятся. За обедом и ужином из репродукторов по огромному залу разносятся марши и всяческая перуанская музыка – вальсы и маринеры, любимые на побережье, и андские уайно. За завтраком столовая полнится только голосами кадетов, нескончаемым потоком болтовни: «Говорю вам, все меняется, а то как же, господин кадет, а вы всю отбивную съесть собираетесь? Оставьте нам хоть кусочек, ну, хоть хрящик, господин кадет. Да уж, с нами они наплакались. Эй, Фернандес, почему мне так мало риса, там мало мяса, так мало желе, эй, в еду чур не харкать, эй, у меня ведь на морде написано, что врезать могу, не играйте с огнем, псы вы этакие. Если б мои псы напускали слюней в суп, они бы у нас Арроспиде голышом гусиным шагом бегали, пока легкие не выблюют. Как примерные псы говорят? Желаете еще отбивной, господин кадет, кто сегодня стелет мне постель, я, господин кадет, кто со мной сегодня куревом делится, я, господин кадет, кто меня инка-колой[5] в «Перлите» угощает, я, господин кадет, кто мои слюни жрет, ну-ка, кто».
Пятый курс вваливается и рассаживается. Три четверти столов пустуют, и столовая кажется еще больше. Первый взвод занимает три стола. За окнами простирается голый пустырь. Викунья неподвижно лежит на траве, уши навострены, большие влажные глаза смотрят в пустоту. «Ты-то думал, я не вижу, но я видел, ты по-мужски локтями работал, чтобы со мной рядом сесть; ты-то думал, я не вижу, но, когда Вальяно сказал, кто подает, и все заорали, Раб, а я сказал, а почему не ваши мамаши, и все завели, ох, ох, ох, я видел, ты опустил руку и чуть не потрогал меня за коленку». Восемь гнусавых голосов продолжают выводить женские охи. Некоторые в возбуждении составляют большой и указательный пальцы кружком и тычут в нос Альберто. «Это я-то, по-вашему, пидор? – говорит он. – А если штаны сниму?» «Ох, ох, ох». Раб поднимается на ноги и начинает разливать молоко по стаканам. Ему хором угрожают: «Не дольешь молока, кастрируем». Альберто поворачивается к Вальяно:
– Химию знаешь, чернявый?
– Нет.
– Списать дашь? За сколько?
Глаза у Вальяно навыкате. Они недоверчиво бегают, оглядывая стол. Он понижает голос:
– Пять писем.
– А мама твоя, – спрашивает Альберто, – как поживает?
– Хорошо, – говорит Вальяно, – Если устраивает, скажешь.
Раб садится. Протягивает руку за хлебом. Арроспиде бьет его по руке, хлеб падает на стол и отскакивает на пол. С хохотом Арроспиде нагибается и подбирает. Смех обрывается. Когда Арроспиде появляется из-под стола, он предельно серьезен. Он встает, вытягивает руку и хватает Вальяно за шею. «Надо, говорю, быть полным идиотом, чтобы цвета не разобрать при таком освещении. Или конченым невезунчиком. Воровать тоже ум нужен, хоть шнурки, хоть боты, а если бы Арроспиде ему башкой нос сломал, черный и белый, надо же». «Я и внимания не обратил, что он черный», – говорит Вальяно и расшнуровывает ботинок. Арроспиде забирает шнурок, он уже успокоился. «Не отдал бы сам – схлопотал бы дюлей, черножопый», – говорит он. Хор снова гугниво заводит медовыми, делаными голосами: «Ох, ох, ох». «Тоже мне, напугал, – отвечает Вальяно. – Я тебе до конца года весь шкафчик обнесу. А сейчас мне бы шнурок достать. Кава, продай шнурок, ты ж у нас коробейник. Эй, я с тобой разговариваю, чего молчишь, вшивый?» Кава медленно поднимает глаза от пустого стакана и с ужасом смотрит на Вальяно. «Что? – говорит он. – Что?» Альберто склоняется к Рабу:
– Ты точно видел Каву ночью?
– Да, – говорит Раб, – это точно он был.
– Лучше никому не говори, что ты его видел. Что-то случилось. Ягуар сказал, они не ходили за вопросами. И посмотри на индейца.
Раздается свист. Все встают из-за столов и бегут на пустырь, где их, скрестив руки на груди, ждет Гамбоа со свистком в зубах. Испуганная викунья бросается наутек от надвигающейся толпы. «Скажу ей, видишь, я химию из-за тебя завалил, я из-за тебя сам не свой, Златоножка, видишь. Возьми двадцать солей, которые мне Раб одолжил, и, если хочешь, я тебе письма буду писать, но только будь умницей, не пугай меня, не делай так, чтоб меня на химии завалили, видишь, Ягуар мне ничегошеньки не продает, видишь, я такой же нищий, как Недокормленная». Взводные опять всех пересчитывают, докладывают сержантам, а те лейтенанту Гамбоа. Начало моросить. Альберто носком пихает Вальяно в ногу. Тот бросает на него косой взгляд.
– Три письма, негр.
– Четыре.
– Ладно, четыре.
Вальяно кивает и облизывает губы, проверяя, не осталось ли на них хлебных крошек.
Класс первого взвода – на втором этаже нового, хоть и облупившегося, изъеденного сыростью здания, которое стоит неподалеку от актового зала – большого сарая с грубо сколоченными скамейками, где раз в неделю кадетам показывают кино. Моросящий дождь превратил плац в бездонное зеркало. Ботинки опускаются на блестящую поверхность, топают и поднимаются в такт свистку. Строевой шаг сменяется на лестнице какой-то рысью: ботинки скользят, сержанты сыплют проклятиями. Из классов виден с одной стороны бетонированный двор, по которому в любой другой день шли бы на учебу четверокурсники и псы, а пятый курс прицельно плевал бы и швырялся в них. Вальяно один раз метнул деревянную чурку. Раздался крик, и пес бросился прочь, зажимая руками ухо, – сквозь пальцы сочилась темная кровь и пачкала куртку. Весь взвод оштрафовали на две недели, но виновника никто не выдал. Из первого увольнения после отсидки Вальяно принес по две пачки сигарет всем тридцати однокашникам. «Больно много, – бухтел он, – пачки на нос хватит». Ягуар с дружками его предупредили: «Или две, или соберется Круг».
– Только двадцать баллов, – говорит Вальяно, – не больше. Не стану я головой рисковать из-за пары писем.
– Нет, – отвечает Альберто, – минимум тридцать. И я тебе сам буду вопросы пальцем показывать. И диктовать ничего мне не надо. Просто покажешь свою работу.
– Ни фига подобного, буду диктовать.
Рассаживаются за парты по двое. Перед Альберто и Вальяно, которые сидят на последней, – Удав и Кава, оба широкоплечие, за ними отлично получается списывать.
– Как в прошлый раз? Ты мне нарочно все неправильно нашептал.
Вальяно смеется.
– Четыре письма, – говорит он, – по две страницы.
Появляется сержант Песоа со стопкой листов в руках. Осматривает класс маленькими злобными глазками. Время от времени кончиком языка дотрагивается до редких усиков.
– Кто достанет учебник или посмотрит на соседа, получает неуд за экзамен. И шесть штрафных баллов в придачу. Командир взвода, раздать задания.
– Крыса.
Сержант подскакивает, краснеет, глаза становятся похожи на шрамы. Детской рукой мнет рубашку.
– Все отменяется, – говорит Альберто, – Я не знал, что будет крыса. Лучше уж я с учебника скатаю.
Арроспиде раздает задания. Сержант смотрит на часы.
– Сейчас восемь. У вас сорок минут.
– Крыса.
– Среди вас ни одного мужика, что ли, нет?! – взрывается Песоа. – Я хочу в лицо посмотреть тому храбрецу, который крыс тут поминает.
Парты приходят в движение: на несколько сантиметров отрываются от пола и падают, сначала вразнобой, потом все разом, а невидимый хор меж тем набирает силу:
– Крыса, крыса!
В дверях возникают лейтенант Гамбоа и учитель химии, человек хлипкий и робкий. Рядом с высоким, спортивным Гамбоа он в своей гражданской одежде, которая к тому же великовата, выглядит довольно ничтожно.
– В чем дело, Песоа?
Сержант отдает честь.
– Шутки шутят, господин лейтенант.
Ни единого шевеления. И абсолютная тишина.
– Ах, вот как, – говорит Гамбоа. – Идите во второй взвод, Песоа. Я займусь этими юношами.
Песоа снова отдает честь и уходит. Учитель химии следует за ним; он, кажется, побаивается стольких людей в форме разом.
– Вальяно, – шепчет Альберто, – уговор в силе.
Не глядя на него, Вальяно мотает головой и проводит пальцем по шее, изображая гильотину. Арроспиде раздал всем материалы экзамена. Кадеты склоняют головы над листками. «Пятнадцать да пять, да три, да пять, мимо, да три, мимо, черт, мимо, да три, нет, это сколько? Тридцать один, да что ж такое. Хоть бы он ушел, хоть бы его позвали, хоть бы что-нибудь случилось и ему пришлось уйти, Златоножка». Медленно, печатными буквами Альберто пишет ответы. Каблуки Гамбоа стучат по плитке. Если кадет поднимает глаза, он неизменно встречается с насмешливым взглядом лейтенанта и слышит:
– Подсказки ждете? И нечего на меня засматриваться. На меня смотрят только моя жена и моя прислуга.
Написав все, что знал, Альберто бросает взгляд на Вальяно: тот быстро строчит, прикусив губу. С превеликой осторожностью он окидывает взглядом класс. Некоторые делают вид, будто пишут, водя ручкой по воздуху в нескольких миллиметрах от поверхности бумаги. Он опять пробегает экзамен; наугад, положившись на интуицию, отвечает еще на два вопроса. Поднимается словно бы далекий, подземный гул: кадеты беспокойно ерзают на местах. Напряжение сгущается: что-то невидимое плывет над склоненными головами, тепловатая неосязаемая масса, туманность, воздушная эманация, роса. Как хоть на пару мгновений обмануть бдительность лейтенанта, избавиться от его гнетущего присутствия?
Гамбоа посмеивается. Перестает шагать по классу, останавливается посередине. Он скрестил руки на груди. Под бежевой рубашкой проступают бицепсы, а взгляд охватывает всю вверенную площадь разом, как во время полевых занятий, когда он мановением руки или резким свистком посылает свою роту месить грязь, ползти по камням, по траве: кадеты под его началом гордо посматривают на доведенных до отчаяния офицеров и кадетов других рот, которых неизменно окружают, берут в осаду, обращают в бегство. Когда Гамбоа в сверкающей на утреннем солнце каске простирает палец в сторону высокой кирпичной стены и произносит (безмятежно, невозмутимо перед лицом невидимого противника, занявшего ближайшие высоты и низины, и даже песчаную прибрежную полосу под утесами): «Взять ее, голуби!» – кадеты первой роты срываются с места, как болиды, – обнаженные штыки смотрят в небо, сердца полнятся безбрежной отвагой, – несутся через поля и огороды, не жалея посевов, – эх, вот бы вместо грядок под ногами были головы чилийцев или эквадорцев, эх, вот бы из-под ботинок брызгали струи крови, эх, вот бы пасть в бою! – потные, сыплющие ругательствами, добираются до стены, перекидывают винтовки за спины, тянут распухшие руки, цепляются ногтями за трещины, впечатываются в стену и ползут по отвесной поверхности, не отрывая глаз от приближающейся вершины, а потом спрыгивают, группируются в воздухе, падают и слышат лишь собственные проклятия и шум крови, пробивающей себе путь к свету через виски и грудные клетки. Но Гамбоа уже впереди, стоит на уступе скалы, на нем ни царапины, ловит носом морской ветер, ведет расчеты. Усевшись на корточки или растянувшись на траве, кадеты внимательно следят за ним: от того, что сорвется с его губ, зависят их жизнь и смерть. Вдруг его взгляд соскальзывает вниз и наливается яростью: голуби превращаются в личинок: «Разделиться! Сбились, как пауки!» Личинки поднимаются, рассредотачиваются, старая полевая форма, штопаная-перештопанная, пузырится на ветру, и заплаты с дырами похожи на струпья и раны, и они опять бросаются мордами в грязь, смешиваются с травой, но послушные, умоляющие глаза по-прежнему устремлены к Гамбоа, как в тот недобрый вечер, когда он убил Круг.
Круг возник, как только они стали кадетами, через двое суток после того, как сняли гражданское, вверили свои черепушки уравнительному действию бритвенных машинок, надели форму цвета хаки, тогда еще с иголочки, и впервые построились на стадионе под пронзительный свист и громогласные команды офицеров. Был последний день лета, и небо Лимы, три месяца пылавшее над пляжами синим пламенем, затянулось, впало в долгий серый сон. Они съехались изо всех уголков Перу, не были знакомы между собой, а теперь составляли плотную массу, стоявшую перед бетонными корпусами, у которых неизвестно что помещалось внутри. Голос капитана Гарридо сообщал им, что гражданская жизнь для них на три года кончилась, что здесь из них сделают настоящих мужчин, что армейский дух имеет три простые составляющие: послушание, труд, доблесть. Но другое началось потом, после их первого обеда в училище, когда они на время оказались наконец свободны от опеки офицеров и высыпали из столовой вперемежку с четверокурсниками и пятикурсниками, на которых смотрели опасливо, но не без любопытства и даже приязни.
Раб один спускался по столовской лестнице к пустырю. Вдруг его руки словно сдавило клещами, а в ухо прошептали: «Пошли с нами, пес». Он улыбнулся и покорно пошел, куда звали. Многих ребят, с которыми он познакомился утром, так же хватали и вели через поросший травой участок к казармам четвертого курса. Занятий в тот день не было. Псы оставались в руках четвертого курса с обеда до ужина, восемь часов. Раб не помнит, в какой взвод и кто его затащил. Но в казарме стоял густой дым, повсюду мелькала форма, все ржали и орали. Переступив порог и не успев стереть с лица улыбку, он получил удар в спину. Упал, перекатился на спину. Попытался подняться, не смог – на живот встали ногой. Десять равнодушных рож уставились на него, будто на насекомое, потолка за ними было не видно. Чей-то голос сказал:
– Для начала пропой-ка сто раз «я пес», как мексиканское корридо[6].
У него не получилось. Он был слишком ошеломлен, глаза вылезли из орбит. Горло горело. Нога вдавилась в живот посильнее.