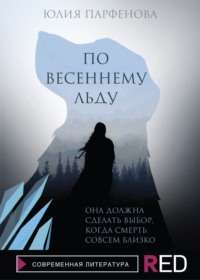Полная версия
Соседи

Юлия Парфенова
Соседи
На ночлеге в пути
вдруг привиделось мне, как от сажи
чистят бренный мир.
БасёЧасть первая
Проклятые дрова отсырели и упорно не хотели гореть. Окоченевшими пальцами Ник запихивал в печку скомканные газетные листы, на которых проглядывали из грязных складок тошнотворно знакомые экранные лица. Весьма удобными для растопки программами зомбоящика с ним поделился Степаныч, а Степанычу их регулярно поставлял Голубятник.
Яркое рваное пламя вспыхивало на минутку и умирало, пробегая синими искорками по чёрным мягким хлопьям. Гламурные рекламные лица корчились и исчезали. Ник удовлетворённо наблюдал за одним, особенно противным: пленительная белоснежная улыбка, модная причёска, коричневый загар. Телевизионные газетки закончились. От поленьев валил едкий дымок. И ведь топит-то он не русскую печку, хотя таковая в избе имеется, а еле живую, в шишках кривых кирпичей «голландку» с маленькой плитой. Почему она «голландка», Ник так и не понял, никаких изразцов на пятнистых боках не наблюдалось. Но старики упорно величали это приспособление именно так, только по- своему – «галанка». Тяга в «галанке» хорошая, дым не валит, как из широкого устья русской печи. Но даже её Ник не может растопить со сноровкой, каждый раз мучается. Если в избу на момент растопки заходит кто-нибудь из соседей, жалостливо-снисходительных взглядов Нику не избежать. Ну что ты тут поделаешь, городской. Убогий.
«Замёрзну я тут на фиг… – безразлично проплыло в Никиной голове. Он откинулся спиной к старому скрипучему буфету и прикрыл глаза. – Да, – саркастически сказал он сам себе, – идеальное место для уединения оказалось неидеальным для проживания. За всё надо платить». Собрав волю в кулак, отшельник резко открыл глаза и стал ожесточённо запихивать в печурку целый ворох листиков из древней «Науки и жизни», отец целыми пачками свозил в деревенский дом старые журналы. Неизвестно что подействовало на упрямую печку, сила науки или заряд Никиного бешенства, но через пару минут он услышал звук, показавшийся ему самым упоительным в мире – потрескивание и пощёлкивание горящих поленьев. Очень скоро затрясся, выплёскивая из носика кипяток, закопченный алюминиевый чайник, подарок толстухи Лукерьи. С чашкой чая в руках Ник устроился на низенькой шаткой скамеечке перед открытой печной пастью.
Оранжевый жар окутывал его волной тёплого воздуха, вызывая дрожь наслаждения в каждой клеточке иззябшего тела. Ник с тоской поглядывал на уютный широкий верх русской печи, вот бы где греться-то! Но после оглушительного провала, когда он задымил избу так, что не смог ночевать, даже подходить к тёмному устью, похожему на голодный рот, было неохота. Наверное, всплыли в подсознании сказочные архетипы. За окнами выл мокрый ветер декабрьской оттепели, во дворе что-то шуршало и звякало. Ник пристально смотрел на огонь, и воспоминания трепыхались в голове серыми мягкими бестолковыми мотыльками.
Много лет назад дом, уютно торчащий из неухоженного фруктового сада, раскинувшегося на пологом холме, практически за бесценок купили Никитины родители. Истосковавшиеся по естественной среде городские души пленили чудесный вид на серповидную излучину тонкой речки Мшинки, пустынная местность и хрустальный воздух, который хотелось пить глотками. После покупки непрактичные собственники приезжали полюбоваться недвижимостью всего пару раз. Мечты вывозить сына на лоно природы из загазованного города не оправдались. Место было выбрано неудачно, добираться долго и тяжело, сначала поезд, потом трясучий автобус.
Никины родители, запоздало сообразив, что разумнее было копить деньги на приличную дачку недалеко от города, хотели перепродать дом хоть за символическую сумму. Но добровольцев, желающих отшельничать, не нашлось, и отец вместе с маленьким Ником съездил в осеннюю «экспедицию». Они немного подновили забор, починили калитку и покрасили белой известкой грязную с подтёками печь. До сих пор Ник помнил сырой меловой запах, отца в рабочем ватнике и хруст яблок-паданцев под ногами. После всех работ солидный амбарный замок воцарился на входной двери, словно гигантская уснувшая улитка, поблескивающая под каплями холодной октябрьской мороси. Так и простоял пустой дом много лет, глядя на Мшинку окошками в потрескавшихся резных наличниках. Уже и отец умер, и Ник вырос, женился, а дом всё стоял. Стоял под дождями, ветрами, палящим солнцем. Безмолвный и терпеливый, переносил все невзгоды; тяжесть гнилых паданцев и опавшей листвы на кровле, зимнюю изморозь прямо в нетопленных комнатах, плесень и мокрые подтёки во время затяжных дождей. Удивительно, что его не начали растаскивать по брёвнышку или не сожгли, такое случалось часто. Унесли только большой железный бак для дождевой воды. Бак, видимо, удобно было катить с холма.
Ник вспомнил о доме как о спасении, когда отношения с женой перешли в стадию затяжной холодной войны. Время наслаивалось мутными слюдяными пластами на теплоту, нежность, горячее близкое дыхание и благодарные глаза. Глаза у Саньки стали пустые, рыбьи, словно выцвели и потеряли способность моргать. Ника она стала называть исключительно Никитою, хотя прекрасно знала, что он стал Ником ещё в нежном детстве, когда никто не мог и предположить, какие странные метаморфозы произойдут с незатейливым сокращением в эпоху Всемирной паутины.
Больше всего Ник боялся пристального рассматривания собственной персоны в раскалённом ненавистью молчании. Ему начинало казаться, что сквозь линзу Санькиного взгляда он становится очень-очень маленьким и сгорает как мошка, попавшая в открытое пламя. Ник не хотел быть мошкой. Он не хотел выслушивать в сотый раз сетования на его неудавшуюся профессиональную карьеру, сомнительных, похожих на него друзей, отсутствие интереса к бизнес-проектам, которые рождались в голове Саньки подобно скопищам радужных мыльных пузырей. Даже отсутствие детей ставилось ему в вину, хотя вердикты многочисленных врачей были удручающе одинаковы – бесплодие неясного генеза, так бывает, старайтесь и надейтесь. Надеяться они ещё надеялись, по крайней мере он, Ник, надеялся, но старались уже плохо. Санька начала пропадать по вечерам, причём спрашивать её о чём-то было делом бесполезным. Молчание и рыбий взгляд.
Ник вздохнул, поёжился и до боли сжал кулаки, воспоминания вызывали почти физическую боль.
Жена успевала всё – работать риелтором, увлекаться цифровым фото и принимать участие в нешуточных выставках, хорошо выглядеть, заниматься вокалом и танцевать танго. Маленькая, быстрая, с карими, блестящими от задорной злости глазами. На фоне Никиного вялотекущего полумедитативного существования фрилансера она походила на разрушительной силы тайфун, сметающий на своём пути все медлительные формы жизни. И самое ужасное заключалось в том, что в редкие моменты необъяснимого снисхождения, приключающиеся с определённой цикличностью, происходили похожие на яркие галлюцинации ночные молчаливые схватки, во время которых поверженный Ник забывал всё на свете и себя самого в том числе. А утром он боялся переплывать из счастливых сонных грёз в разъедающую душу явь, где превратившаяся из страстной кошечки в чёрную мамбу, короткими злыми зигзагами передвигалась по квартире Санька.
В какой-то момент Ник понял – всё. Приехали. Он временно работал в небольшой макетной мастерской, обслуживающей скромную, только ещё набирающую обороты строительную фирму, и гендиректор, пухловатый и очень деловой молодой человек, обладающий непостижимыми дипломатическими способностями, умудрялся продлять с ним (и не только с ним) договор, стабильно задерживая выплату денег. В результате каждый вечер Ник выслушивал дома короткие, но ёмкие по смыслу высказывания о бессмысленности жалкого существования подобных ему особей мужского пола. От постоянного внутреннего напряжения Ник даже внезапно политизировался и сходил на пару маршей протеста, которые обильно плодила напряжённая и душная, как знойный предгрозовой час, тоска, захватившая страну. Казалось, Никины мучения перелились через край и озером, печальным мелководьем растеклись на километры вокруг. Как сквозь воду видел он лица людей, люди открывали и закрывали рты, напряжённо выбрасывая в пространство тонны слов, и горячие слова нёс горький осенний ветер, пока они не опадали на землю, скрюченные и остывшие, как засохшие листья. Разноцветные флаги, казавшиеся в начале митингов тропическими цветами, к завершению обычно обвисали, прекращая свою яростную полемику с воздушной стихией, и становились похожи на старые эстрадные костюмы ушедшей эпохи. На глазах Ника в автозаки затаскивали людей совершенно не протестного вида. Увидев таких на улице, в толпе, он никогда бы не подумал, даже не вообразил, что вполне интеллигентные люди среднего возраста способны на открытое и ожесточённое сопротивление сноровистым фигурам в касках и камуфляже. Сбитые набок очки, седые волосы и лысина у лежащего на асфальте, грузная женщина, с которой почти стянули лопнувший по шву плащ; Ник, плохо соображая, пытался помочь, кого-то поднимал, давал бумажный платок, чтобы вытереть кровь, его мяло и уносило толпой. Болотная, болото, трясина, нет воздуха…
Что-то изменилось у него внутри после этого дня, сломалось или разладилось, он и сам не знал. На короткий период времени у Ника завёлся важный бородатый друг, поклонник такого же бородатого идеолога и оратора, маскирующегося, однако, в тогу традиционной философии. С утомляющей периодичностью друг кидал Нику ссылки на лекции и семинары, где густым утробным голосом профессор-идеолог, удивительным образом не обременённый высшим образованием, излагал ослепительные перспективы бескрайнего русского мира. Но в природно-скептическом сознании Ника великие идеи, искрящиеся как новогодние бенгальские огни, по окончании безудержного фонтана компилятивных искр быстро гасли. Не найдя систематической зацепки и вообще какой-либо стройной системы в предлагаемом омуте смешанных на манер солянки разных философских потоков, Ник быстро охладел и к идеям, и к бородатому другу.
Постепенно Ник замкнулся, уплывая в сторону от какой-либо активности, не в силах найти ту единственную внутреннюю опору, которая позволила бы ему не уходить под тёмную воду собственных страхов. Нестерпимое желание простого разрешения сложных вопросов и было, наверное, основной причиной Никиного побега.
В тот всё изменивший зимний тусклый день он, как всегда тихо, стараясь не показываться лишний раз на глаза, пережидал, пока Санька соберётся и уйдёт на репетицию своего танцевального клуба. Когда в квартире стало тихо и лёгкий запах духов уплыл в раскрытую балконную дверь, Ник вдруг решил… в мастерскую не идти.
В полутёмной прихожей он вздрогнул, не сразу сообразив, что движение сбоку – это его отражение в зеркале, частично закрытом Санькиной старой дублёнкой. Силуэт дублёнки напоминал тщедушного висельника, и из-за безвольного рукава с поредевшей меховой опушкой смотрело бледное лицо с чёткой светотенью. Длинный тощий силуэт, русая чёлка свисает до носа, глаза запали и в полумраке потеряли яркость, спрятались в тени глазниц. Двадцать шесть лет! Двадцать шесть лет, а в жизни не сделано ничего стоящего, ничего настоящего.
И тут Ник вдруг понял: если тайфун накроет его ещё раз, он погибнет. Разлетится облаком мелких щепок. Надо исчезнуть, исчезнуть как можно скорее, не заботясь ни о чём, ничего не забирая, просто раствориться, будто его и не было вовсе. Внешний мир давил не так невыносимо, как Санькина ненависть, но тоже вполне ощутимо. Телевизор он не включал давно, но и бурлящее варево Интернета стало вдруг утомлять. Волны чужой боли, чужой радости, чужой глупости и просто откровенной пустоты накрывали с головой, и утопая, Ник видел, как на мутной поверхности вяло покачивался мелкий непонятный мусор. Он отлично понимал, что от ненависти его не укроет ничто, но спастись от внешнего мира стоило попытаться.
Про дом в Вежье Санька не знала, и его смутный образ наполнился вдруг для Ника ожившими детскими воспоминаниями, будто глуховатый голос отца позвал его из прошлого. Он сел к монитору и очень быстро нашёл нужные карты и разобрался, как добираться до места назначения. Потом набрал номер матери. Последнее время он редко навещал её, потому что боялся разговоров о своих отношениях с супругой. Мать его была нетипичной свекровью и никогда не защищала интересы единственного и обожаемого сына вслепую. Она тоже укоряла Ника за нестабильный заработок, излишнюю мечтательность и склонность к неконтролируемому трусливому самопогружению во «внутреннюю эмиграцию». Чтоб не могли запеленговать. Мать страшно расстраивалась и всё время напоминала, что изолироваться можно от политического режима. От семьи не выйдет. Ник в ответ молчал. От этого мать расстраивалась ещё больше, она чувствовала в его пассивном молчании тайное сопротивление и угрозу внезапного мятежа.
Услышав её чуть дребезжащий, усталый голос, Ник секунду собирался с силами, наконец преувеличенно бодро сказал:
– Привет, мам, как ты там?
– Никочка, как хорошо, что позвонил, у меня всё в порядке, ноги только болят, была у Шумского, прописал мази какие-то, таблетки. Может, заедешь?
– Мам, ты не волнуйся только, но я думаю поехать пожить в Вежье. На какое-то время. Ключи от дома ты мне дала пару лет назад, помнишь?
– Помню. Ник, что случилось? – голос матери дрогнул. – Вы с Сашей разводитесь?
– Нет пока, мам. Я не знаю. Всё сложно, мне надо как-то… сосредоточиться что ли, ну собрать себя, я словно… распылился, – с трудом подобрал Ник нужное слово.
– А как ты собираешься там жить? – Мать нервничала всё больше. – Как? Там ведь, ещё когда папа ездил, грозились магазин закрыть. Столько лет прошло. Может, туда и не ходит ничего уже. А может, там бомжи, уголовники какие-нибудь доживают, убьют тебя, и даже искать никто не будет!
– Ну, мам, какие бомжи, бомжам нужен город, помойка. Они ведь как чайки или собачки-котики, – промямлил Ник, а сам подумал: «А вдруг там кто-то почище смирных прикормленных помойкой бомжей?», но потом понял, что в данный момент перспектива дальнейшего проживания рядом с Санькой пугает его больше возможного соседства волков и уголовников.
Мать помолчала, подышала в трубку, потом слабо спросила:
– А Саша? Как же она?
– Она справится. Всё, мам, пока. Как только вернусь, сразу к тебе зайду. Не скучай сильно, позови в гости тётю Олю. – Ник чувствовал, что если разговор продлится ещё хоть минуту, то он никуда не уедет.
После смерти отца мать почти полностью прервала контакты с огромным, меняющимся и шумным внешним миром. Замкнутость и склонность к болезненному самоанализу он унаследовал от неё, отец был человеком весёлым, открытым и компанейским. Он казался маленькому Нику большим ледоколом, ломающим толстые синие льды всего страшного, нового и незнакомого. А они с мамой были маленьким корабликом, тихо плывущим за ним по спокойной воде. Внезапный обширный инфаркт, сразивший отца, который каждое утро, несмотря на погоду, начинал с пробежки, был ужасен и необъясним. Мать была не просто раздавлена и разбита, она словно потеряла себя. Знакомые помогли Нику уложить мать в клинику неврозов, и врачи долго закалывали её седативными препаратами и мучили долгими психотерапевтическими беседами. Потом мать рассказывала ему, что в какой-то момент словно очнулась, увидела всё другими глазами, словно её голову в ледяную воду сунули, причём меньше всего этому содействовали беседы с психологом. Просто стало до боли ясно, что мир по-прежнему живёт, волнуется, рассветы сменяют ночную тьму, воробьи купаются в лужах и чирикают оглушительно, и тёплый ветер так же, как каждую весну, раскачивает ветки, покрывшиеся крошечными лакированными листочками. «Я поняла, что для меня и для тебя Серёжа будет живым, мы будем разговаривать с ним, рассказывать ему наши радости и беды, – сказала она Нику, вернувшись домой. – Нам никто не может запретить этого делать. Жить надо, что поделаешь. Надо, даже если не хочется».
Тётя Оля, крёстная Ника, возившаяся с ним ещё со времён младенчества, была одинокой и весьма эмансипированной дамой. Полагаться она привыкла только на себя, но никогда не делая поблажек собственным прихотям, к близким и даже дальним была удивительно снисходительна. Это её качество пленяло людей решительно и бесповоротно. Именно энергия кумы позволяла матери держать голову над глубокими водами постоянной печали. По контрасту с замечательной тётей Олей, никогда не забывавшей навестить мать и даже иногда вытащить её в театр или на концерт, Ник всегда чувствовал себя предателем и свиньёй.
Ник долго сочинял записку для Саньки, объясняться по телефону не хотел. Записка не сочинялась. Ну как в трёх строчках выразить то, что копилось столько лет? В конце концов он остановился на слегка манерном варианте «Прости, мне нужен тайм-аут». Вроде как и мосты не сжигает, и извиняется… Короче, покатит. Беглец вышел из дома с туристическим рюкзаком, в недрах которого обитали документы, пара смен белья, два свитера в обнимку с джинсами, томик Гессе и половина гонорара за последнюю халтуру. Вторая половина осталась на столе рядом с запиской.
На автовокзале Ник почувствовал такую радость, такое чувство внутреннего освобождения, что стало трудно дышать. Он купил себе в грязноватом ларьке, из которого слышались весёлые кавказские голоса, большой резиновый чебурек и картонный стаканчик с еле тёплым чаем. Половину чебурека скормил упитанным степенным голубям, которые вразвалку обступали крошки, отпихивая оперёнными задами худосочных воробьёв. Воробьи не сдавались и вытягивали кусочки, просовывая головы прямо под голубями.
Ник долго трясся в большом междугороднем автобусе, потом ещё в одном автобусе поменьше. И наконец поздним вечером очутился в глухом районном центре, где блочные пятиэтажки с ржавыми рыжими подтёками мирно соседствовали с барачного типа тёмными деревянными домами. Тут-то его эйфория немного поугасла. Никто про дорогу к опустевшей деревне не знал. Все опрашиваемые морщили лоб и сразу начинали подозрительно выяснять, а на кой ему, Нику, Вежье понадобилось. Сначала Ник недоумевал, а потом паренёк в линялом, продранном на локте тощеньком пуховике, посасывая обмётанными губами какую-то дрянь из жестяной баночки, объяснил ему, что мода такая появилась, шнырять на внедорожниках по заброшенным, заросшим деревенькам и искать всякую всячину, монеты, например, старинные. Или ещё чего. Поэтому люди и того, значит, не любят таких, короче. Ник объяснил доходчиво, что ему до своего дома добраться неплохо бы, чужие ему на фиг не нужны. Паренёк некоторое время морщил лоб, думал, даже посасывать из баночки громче стал, потом бросил пустую баночку на бугристый асфальт, расплющил огромной кединой и очень задумчиво сказал:
– В Вежье Голубятник продукты возит. Вроде дед у него там живёт, отказывается сюда перебираться. Голубятник на древнем козле ездит, какой-то он то ли ментозавр бывший, то ли хрен знает. Рядом тута живёт, бармалейник, типа, такой, под снос. Могу показать. Классный такой чувак.
«Классный чувак» Голубятник оказался военным врачом, хирургом на пенсии. А козёл, Ник уже успел создать в голове красочную почти библейскую картину гужевого перемещения на покорном транспорте с седой бородой, козёл оказался вполне приличным на вид старым уазиком, видно было, что за ним ухаживают ещё и получше, чем за домашней скотиной. Дом же действительно иначе как «бармалейником» окрестить было невозможно. Ник с сочувствием оглядел двухэтажное панельное чудо архитектурной мысли, украшенное зловещей трещиной, стыдливо прикрытой ухом спутниковой «тарелки» и каким-то подозрительным курятником на крыше. В самый момент созерцания сбоку курятника приоткрылась невидимая дверца и наружу вылез грузный дядька, облачённый в спортивные трикотажные штаны и защитного окраса куртку. В лопатообразных ладонях дядька нежно держал упитанного голубя и, если зрение Ника не обманывало, пытался, вытянув губы трубочкой, поцеловать птицу в клюв. Птица отворачивалась. Из-за перьевых штанов, хохолка и исполинских размеров голубь сильно смахивал на попугая. Дядька посмотрел вниз, на застывшего с задранной головой Ника, и его широкое лицо осветила младенческая улыбка.
Не прошло и получаса, как на крошечной, с хлебную горбушку, кухоньке они стали душевными друзьями. Михаил Алексеевич Лапшаев, он же Голубятник, имел наружность грузчика овощных фур, питерское академическое образование и нежную, как его коллекционные голуби, душу. По мере наполнения кухоньки густыми спиртовыми парами на его широком и беззлобном лице всё яснее читалось горячее, как грелка, сочувствие. Неизвестно, что подействовало на интроверта Ника, воркование ли пухлых узбекских турманов, которые обитали во второй, оборудованной на балконе голубятне, действие ли жидкости номер два или просто общая неопределённость его нынешнего положения, но как-то незаметно, сбивчиво и беспорядочно он размотал тогда перед Голубятником весь свиток своих горестей.
Михаил Алексеевич оказался человеком житейски искушённым и опытным, с двумя жёнами развёлся, одну пережил. Он слушал его молча, потом сказал: «Щас», грузно поднялся и поплыл из кухни, стараясь держать ровный курс. Судя по грохоту падавших вещей и неразборчивому добродушному мату, ему это удавалось не всегда. Наконец, с трудом вписавшись в дверной проём, Голубятник ввалился обратно. В его руках была бумажная иконка и чёрно-белая фотография. С фотографии взирал молодой мужчина в очках и с окладистой бородой цвета соли с перцем. Сумрачный серьёзный взгляд, галстук с пышным узлом. На иконке явно был он же, только постаревший, с уже белоснежной бородой, в чёрном монашеском облачении и без очков.
– У-ди-ви-тель-ный человек! – по слогам выговорил Голубятни. – Лука Крымский! В миру Войно-Ясенецкий. Смотри Никуша и вникай. И на художника он учился, тебе это близко, и на врача, уж не обижайся, но решил он, что от врача пользы для стра…дру…страждру… Ну, короче, пользы больше! Ну и стал таким хирургом, таким! Таким хирургом, Никуша! Учебники по гнойной хирургии писал. А счастлив-то очень не был, жена от чахотки померла, мучилась бедняжка страшно, ребятишки сиротами остались. А он работал и работал как ломовая лошадь, потом ещё вот и попом стал, даже епископом. Ну, это уж по велению души. Арестовывали его, ссылали, дела лепили нелепейшие, а он жил и работал. И не ломался. Я этот вот портрет из журнала вырезал, а иконку знакомая одна подарила, на, говорит, Лексеич, прямого тебе защитника небесного, как ты, врача-хирурга. Я вот берегу и даже вроде как молюсь, хоть, по правде, неверующим всю жизнь прожил. Пока работал ещё, иконка в кабинете стояла, бывало, тяжело, операция сложная, так посмотришь на него, все эти дела про ссылки и мытарства вспомнишь, и вроде легчает. А ты молодой такой, жена ест, плешь пилит, так ведь жива, детей голодных ртов нет, руки-ноги целы, так и слава тебе, Господи. Блажишь ты. А может и верно, что в глушь собрался, в глуши мысли ненужные отваливаются, а нужные остаются. Пойдём, Никуша, я тебе раскладушку пристрою, только не обессудь, ежели что, через тебя шагать буду.
В поисках пледа Голубятник разгромил свою единственную комнату, но в конце концов Ник очутился на продавленной раскладушке, с болтающимся в паре сантиметров от пола задом и кучей новых мыслей голове. Пружины угрожающе скрипели, и почти в тон им с балкона музыкально отзывались хохлатые турманы.
На следующий день Ник с Голубятником затоварились в местном продуктовом магазинчике мукой, хлебом, растительным маслом, сахаром, бледными длинными, похожими на малокровных жителей Питера батонами, макаронами и консервами. Чтобы побаловать «старичков-боровичков», так ласково называл Лапшаев старожил Вежья, были куплены три вафельных тортика и несколько банок сгущёнки.
– Они же, старые пни, знаешь, как сладенькое любят, соберутся у Ивановны, это младшая из бабок, и чаёвничают. Жаль, телека нет у них, я бы купил, да кабель уже обрезали, и кто теперь уж проведёт, доживают старики. Надо бы тарелку им купить. Хорошо, хоть электричество оставили, да и то отключить грозятся. Я вот им пенсию везу, скопилась почти за два месяца.
Выехали из райцентра далеко за полдень, Лапшаев долго обихаживал своих воркующих подопечных и прощался с ними, как с малолетними детьми. По дороге из сырого тумана пугливо выглядывали грязноватые дома, покосившиеся заборы, ржавые железные гаражи. Неприглядную картину чуть сглаживал пушистый иней, деревья и кусты казались новогодними украшениями. Когда проезжали небольшой мощёный плиткой пятачок перед местным домом культуры, Ник засмотрелся на замечательно сохранившегося Ильича, вариант был небольшой, компактный, но всё что полагается, включая кепку, присутствовало. Только местный Ильич не протягивал руку в светлую даль, указывая пролетариату на туманно-счастливое будущее, а пребывал в некоторой философической задумчивости, взявшись рукой за лацкан пиджака.