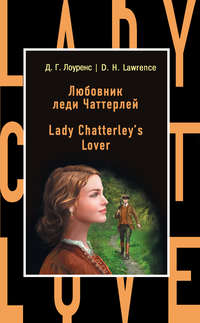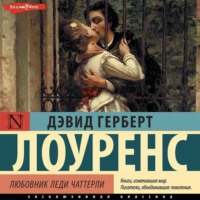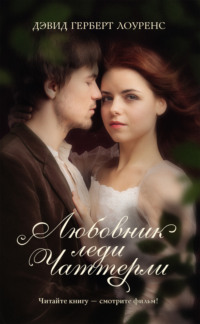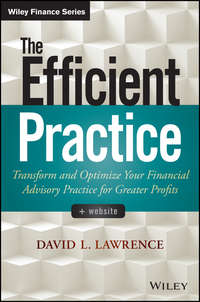Полная версия
Влюбленные женщины
Беркин и Урсула думали, что Гермиона завершила свою речь, но у нее в горле что-то заклокотало, и она вновь заговорила:
– Лучше им быть кем угодно, чем вырасти искалеченными, искалеченными духовно, искалеченными эмоционально, отброшенными назад, обращенными против себя, не способными… – Гермиона крепко сжала кулак, словно находясь в трансе, – не способными на непроизвольное действие, осмотрительными, отягощенными проблемой выбора, никогда не теряющими головы…
И опять они решили, что речь закончена. Но как только Беркин собрался ответить, Гермиона продолжила свою пылкую речь…
– Никогда не теряющими головы, не выходящими из себя, всегда осмотрительными, всегда помнящими о своем благополучии. Разве есть что-нибудь хуже этого? Да лучше быть животными, простыми животными, лишенными разума, чем такими, такими ничтожествами…
– Неужели ты полагаешь, что именно знание делает нас неживыми и эгоистичными? – спросил он сердито.
Широко раскрыв глаза, Гермиона медленно перевела их на Беркина.
– Да, – ответила она и замолчала, не спуская с него рассеянного взгляда. Затем усталым отрешенным жестом потерла лоб. Этот жест еще больше взбесил Беркина.
– Все дело в разуме, – продолжала Гермиона, – и он несет смерть. – Она медленно подняла на мужчину глаза: – Разве наш разум, – при этих словах непроизвольная конвульсия сотрясла ее тело, – не является нашей смертью? Разве не он разрушает нашу естественность, наши инстинкты? Разве молодые люди в наши дни не становятся мертвецами прежде, чем начинают жить?
– Все потому, что у них слишком мало, а не слишком много разума, – жестко возразил Беркин.
– Ты уверен? – вскричала она. – Я склонна думать иначе. Они чудовищно интеллектуальные, до предела отягощенные сознанием.
– Да они всего лишь находятся в плену ограниченного набора ложных представлений! – воскликнул он.
Гермиона не обратила никакого внимания на его слова, продолжив свои экстатические вопросы.
– Обретая знания, разве мы не теряем все остальное? – патетически вопрошала она. – Если я знаю все о цветке, разве тем самым я не теряю его, оставляя себе только знание о нем? Разве мы не подменяем реальность ее тенью, а саму жизнь мертвым знанием? И что после этого оно мне дает? Что дает мне все знание мира? Да ничего.
– Это только слова, – сказал Беркин. – Знание для тебя – все. Взять хоть твой анимализм, он лишь в твоей голове. Ты не хочешь быть животным, тебе хочется наблюдать в себе животные инстинкты и умозрительно наслаждаться этим. Это вторично и более ущербно, чем самый узколобый интеллектуализм. Твоя тяга к страстям и животным инстинктам – не что иное, как самая последняя и худшая форма интеллектуализма. Ты жаждешь испытать страсти и животные инстинкты, но только умозрительно, в сознании. Все свершается в твоей голове, в твоей черепной коробке. Но ты не хочешь знать, что происходит на самом деле, ты предпочитаешь обманывать себя, что вполне соответствует твоей натуре.
Гермиона перенесла его выпад с решительным и злобным выражением лица. Урсула не знала, куда деваться от удивления и стыда. Ненависть этих двух людей друг к другу пугала ее.
– Все это похоже на поведение леди из Шалота, – продолжил Беркин громким, лишенным выражения голосом. Казалось, он обвинял Гермиону перед невидимой аудиторией. – У тебя есть зеркальце, твоя неуемная воля, твоя извечная умозрительность, тесный мирок твоего сознания и ничего, кроме этого. В этом зеркале есть все, что тебе нужно. Но теперь, зайдя в тупик, ты хочешь вернуться назад и уподобиться дикарям, не имеющим никаких знаний. Ты хочешь жить одними ощущениями и «страстями».
Последнее слово он произнес с явной издевкой. Гермиона дрожала от ярости и злобы, потеряв дар речи, словно больная пифия в Дельфах.
– То, что ты называешь страстью, – ложь, – продолжал яростно Беркин. – Это совсем не страсть, это твоя воля. Тебе необходимо все захватить и всем завладеть. Тебе нужно властвовать. А почему? Да потому, что ты неживая, ты не знаешь темной чувственной плоти жизни. Ты лишена чувственности. У тебя есть только воля, тщеславное сознание, жажда власти и знания.
Во взгляде, который он послал Гермионе, смешались ненависть и презрение, а также боль, ибо она страдала, и стыд, потому что это страдание причинил он. Его охватило импульсивное желание пасть на колени и молить о прощении. Но тут новая волна неудержимого гнева накатила на него. Позабыв о жалости, он превратился в страстный глас.
– Стихийность! – вскричал он. – Ты и стихийность! Да ты самое расчетливое существо из всех, кто когда-либо ходил или ползал. Непосредственной ты можешь быть только по расчету, это ты можешь. Ведь ты хочешь иметь все в своем распоряжении, в своем преднамеренно избирательном сознании. Заключить все в свою омерзительную черепушку, которую следовало бы расколоть, как орех. А иначе ничего не изменится, ты останешься все той же, пока твой череп не хрустнет, как раздавленное насекомое. Только тогда ты, может быть, превратишься в непосредственную, страстную женщину, наделенную естественной чувственностью. А пока твои желания сродни порнографии: ты разглядываешь себя в зеркалах, наблюдая за действиями нагого животного, чтобы потом перенести их в сознание, сделать ментальными.
В атмосфере ощущался привкус насилия – слишком много было сказано того, что невозможно простить. Однако после этой речи Урсула задумалась над решением собственных проблем. Вид у нее был бледный и отрешенный.
– Чувственное восприятие действительно так необходимо? – озадаченно спросила Урсула.
Взглянув на девушку, Беркин принялся внимательно растолковывать ей свою точку зрения.
– Да, – ответил он, – больше всего на свете. Это конечная цель – тайное великое знание, недоступное разуму, тайное стихийное существование. С одной стороны, это смерть для личности, но одновременно переход на другой уровень бытия.
– Но как такое может быть? Где, как не в человеческом мозгу, заключается знание? – спросила Урсула, не в силах постичь смысл его слов.
– В крови, – ответил он, – когда разум и внешний мир тонут во тьме – все должно сгинуть, обернуться потопом. Тогда-то в этой осязаемой тьме вы обретете себя в демоническом обличье…
– А почему так уж нужно быть в демоническом обличье? – спросила она.
– Где женщина о демоне рыдала, – процитировал Беркин. – Почему, не знаю.
Неожиданно, словно из небытия, воскресла Гермиона.
– Он ужасный сатанист, правда? – подчеркнуто растягивая слова, проговорила она необычно резонирующим голосом, перешедшим в резкий издевательский смешок. Обе женщины с издевкой смотрели на Беркина, их насмешливые взгляды обращали его в ничтожество. Гермиона расхохоталась резким смехом одержавшей победу женщины, она презрительно смотрела на него, словно перед ней был не мужчина, а кастрат.
– Нет, – возразил он. – Ты настоящий демон, пожирающий жизнь.
Она посмотрела на него долгим взглядом, злобным и презрительным.
– Ты, похоже, разбираешься в этих вопросах? – сказала она с холодной насмешливостью.
– Достаточно, – отозвался он, и его лицо показалось Гермионе вырезанным из закаленной стали. Ее охватило чувство невыносимого отчаяния и одновременно облегчения, свободы. Она непринужденно, как к хорошей знакомой, обратилась к Урсуле: – Так вы приедете в Бредэлби?
– С удовольствием, – ответила та.
Гермиона посмотрела на нее удовлетворенным, задумчивым и странно отсутствующим взглядом, как будто мысли ее витали в другом месте.
– Очень рада, – сказала она, беря себя в руки. – Недельки через две. Подходит? Я напишу вам сюда, на школу. Хорошо. И вы обязательно приедете? Хорошо. Я буду рада. До свидания! До свидания!
Гермиона протянула руку и заглянула в глаза другой женщины. Она увидела в Урсуле неожиданную соперницу, и это открытие странным образом ее подбодрило. К тому же она собралась уходить, а это всегда давало ей ощущение силы и превосходства. Более того, она уводила с собой мужчину, пусть и ненавидящего ее.
Беркин с отрешенным видом стоял в стороне. Когда же пришел его черед прощаться, он вновь заговорил:
– Существует пропасть между чувственным, живым существованием и порочным умозрительным распутством, которым занимаются люди нашего круга. По ночам у нас всегда горит электричество, мы наблюдаем за собой, у нас никогда не отключается разум. Чтобы познать чувственную реальность, нужно полностью отключить разум и волю. Это необходимо. Прежде чем начать жить, нужно отречься от себя прежнего. Но мы очень тщеславны – вот в чем корень зла. Мы тщеславны и не горды. В нас нет ни капли гордости, мы полны тщеславия, чрезвычайно довольные собственным искусственным существованием. И скорее умрем, чем откажемся от мелкого самодовольного своеволия.
Беркину никто не возражал. Обе женщины хранили враждебное молчание. Казалось, он выступал с речью на митинге. Гермиона не обращала на него внимания, лишь неприязненно передернула плечами.
Урсула украдкой следила за Беркином, не осознавая полностью, что же все-таки она видит. Физически он был очень привлекателен – за худобой и бледностью ощущалась скрытая мощь, – она, словно голос за кадром, открывала о нем новое знание. Эта мощь таилась в изломе бровей, линии подбородка, тонких изысканных очертаниях, передающих неповторимую красоту самой жизни. Урсула не могла определить, что это такое, однако остро ощущала исходящие от мужчины силу и внутреннюю свободу.
– Но разве мы не обладаем, сами по себе, естественной чувственностью? – спросила она, обращаясь к Беркину, – в ее зеленоватых глазах мелькнул, как вызов, золотистый огонек смеха. И тут же в его глазах и бровях вспыхнула в ответ странно беспечная и удивительно привлекательная улыбка, не затронувшая, однако, сурово сжатых губ.
– Нет, – ответил он. – Не обладаем. Мы слишком эгоистичны.
– Но дело ведь не в тщеславии, – воскликнула Урсула.
– Только в нем, и ни в чем другом.
Она искренне изумилась такому ответу.
– А вам не кажется, что больше всего люди кичатся своей сексуальной силой? – спросила она.
– Поэтому их и нельзя назвать чувственными, они всего лишь сладострастные, а это совсем другое. Такие люди всегда помнят о себе, они настолько самодовольны, что вместо того, чтобы освободиться и жить в ином мире, вращающемся вокруг другого центра, они…
– Не сомневаюсь, что вы хотите выпить чашечку чаю, не так ли? – проговорила Гермиона, подчеркнуто заботливо обращаясь к Урсуле. – Ведь вы работали целый день.
Беркин резко замолчал. Ярость и досада пронзили Урсулу. Лицо мужчины окаменело. Он попрощался так, словно перестал ее замечать.
Они ушли. Некоторое время Урсула стояла, глядя на закрывшуюся за ними дверь. Потом выключила свет и села на стул, потрясенная и потерянная. И вдруг неожиданно разрыдалась, слезы текли рекой, но что это было – слезы радости или горя – она не понимала.
Глава четвертая. Ныряльщик
Прошла неделя. В субботу зарядил дождь, легкий моросящий дождик, который то начинал накрапывать, то прекращался. В один из светлых промежутков Гудрун и Урсула отправились на прогулку в направлении Уилли-Уотер. День был пасмурный, птицы звонко распевали на распушившихся молодой зеленью ветках, земля спешила покрыться растительностью. Женщины шли проворно, их бодрили и радовали доносящиеся из туманной дымки еле различимые, нежные утренние шумы. У дороги стоял обсыпанный белыми влажными цветами терн, золотистые крошечные тычинки нежно поблескивали в белом кружеве. В сероватом воздухе загадочно светились багровые ветки, высокий кустарник призрачно мерцал и только при приближении к нему становился самим собой. Утро было как первый день творения.
Сестры подошли к озеру. Внизу, вклиниваясь в затянутую влажной дымкой лужайку и рощицу, простиралась таинственная сероватая гладь воды. Из придорожных кустов жизнь заявляла о себе оживленными звуками, птицы щебетали, перебивая друг друга; доносился таинственный плеск воды.
Женщины медленно шли вперед. У края озера, недалеко от дороги, стоял под каштаном обросший мхом лодочный домик, рядом располагался небольшой причал, где легкой тенью на свинцовой глади покачивалась лодка, привязанная к зеленому обветшалому столбу. В преддверии лета все было смутно и призрачно.
Неожиданно из лодочного домика выскользнула белая фигура и, молниеносно пробежав по старому дощатому помосту, нырнула в озеро, описав светлую дугу и вызвав мощный всплеск; почти тут же пловец вынырнул на поверхность, оказавшись в центре расходящихся по воде кругов. Теперь все это призрачное водное царство принадлежало ему. Он скользил по незамутненной серой глади существующей извечно воды.
Стоя у каменной стены, Гудрун следила за пловцом.
– Как я ему завидую! – проговорила она тихим, полным тайного желания голосом.
– Брр, – поежилась Урсула. – Вода такая холодная!
– Ты права. Но все же как прекрасно вот так плыть!
Сестры стояли и следили за пловцом, который мелкими ритмичными движениями продвигался все дальше по серой водной глади под аркой из тумана и склоненных над водой деревьев.
– Разве ты не хотела бы быть на его месте? – спросила Гудрун, глядя на Урсулу.
– Хотела бы, – ответила Урсула. – Впрочем, не уверена, очень сыро.
– Вовсе нет, – неохотно сказала Гудрун. Она неотрывно, словно зачарованная, следила за тем, что происходило на поверхности озера. Проплыв немного, мужчина повернул обратно и теперь смотрел в ту сторону, где стояли у стены женщины. Идущая от его рук слабая волна не помешала сестрам разглядеть разрумянившееся лицо; они поняли, что он их заметил.
– Это Джеральд Крич, – сказала Урсула.
– Я вижу, – отозвалась Гудрун.
Она неподвижно стояла, вглядываясь в лицо упорно плывущего человека, – оно то погружалось в воду, то выныривало из нее. Он видел их из другой стихии и, будучи сейчас властелином одного из миров, радовался своему преимуществу. Неуязвимый и совершенный, он испытывал наслаждение от энергичных, рассекающих воду бросков собственного тела и обжигающе холодной воды. Он видел стоящих на берегу женщин, они провожали его глазами, и это было ему приятно. Он поднял над водой руку, приветствуя их.
– Он нам машет, – сказала Урсула.
– Да, – отозвалась Гудрун. Они продолжали смотреть в его сторону. Джеральд помахал снова. Странно, что он узнал их, несмотря на расстояние.
– Он похож на нибелунга, – рассмеялась Урсула. Гудрун промолчала, все так же глядя на воду.
Неожиданно Джеральд развернулся и быстро поплыл кролем в противоположную сторону. Он был один сейчас, один и в полной безопасности посреди водной стихии, принадлежавшей только ему. Он наслаждался ощущением одиночества в обособленном мире, бесспорном и абсолютном. Разрезая воду ногами, пронзая ее всем своим телом, он был счастлив, не ощущая никаких уз или оков, – только он и вода вокруг.
Гудрун едва ли не до боли завидовала ему. Даже это недолгое пребывание в полном одиночестве посреди водной стихии казалось ей столь желанным, что она, стоя на берегу, ощутила себя отверженной.
– Господи, как же здорово быть мужчиной! – воскликнула она.
– Что ты имеешь в виду? – удивилась Урсула.
– Свободу, независимость, движение! – продолжала необычно раскрасневшаяся и сияющая Гудрун. – Если ты мужчина и чего-то хочешь, ты просто это делаешь. У тебя нет той тысячи препятствий, что всегда стоят перед женщиной.
Урсуле стало интересно, что вызвало у Гудрун этот взрыв эмоций. Она не могла этого понять.
– А что бы ты хотела сделать? – спросила она.
– Ничего, – воскликнула Гудрун, отвергая подозрение в личной заинтересованности. – Однако предположим, что у меня есть желание. Предположим, я тоже хотела бы сейчас поплавать. Но это невозможно – вступает в силу один из негласных запретов: я не имею права сбросить одежду и нырнуть в воду. Разве это не смехотворно, разве это не мешает жить?
Гудрун раскраснелась, она просто клокотала от ярости; все это озадачило Урсулу.
Сестры зашагали по дороге дальше. Они шли через рощицу немного ниже Шортлендза и не могли не бросить взгляд на длинный низкий дом, величественно проступавший в утреннем тумане. Кедры клонились к его окнам. Гудрун особенно внимательно разглядывала дом.
– Тебе не кажется, что он красивый? – спросила она.
– Очень красивый, – ответила Урсула. – Мирный и уютный.
– В нем есть стиль и чувство эпохи.
– Какой эпохи?
– Наверняка восемнадцатый век… Дороти Вордсворт и Джейн Остин, разве не так?
Урсула рассмеялась.
– Разве не так? – повторила вопрос Гудрун.
– Возможно. Однако не думаю, что Кричи так уж озабочены сохранением исторического колорита. Мне известно, что Джеральд устанавливает частную электростанцию, чтобы провести в дом электричество, и не пропускает ни одного новейшего усовершенствования.
Гудрун нетерпеливо пожала плечами.
– Без этого не обойтись, – сказала она.
– Да уж, – рассмеялась Урсула. – В Джеральде энергии хватит на несколько поколений. За это его терпеть не могут. Того, кто ему мешает, он просто берет за шиворот и отбрасывает со своего пути. Когда он все в имении усовершенствует, ему нечем будет заняться, и тогда придется умереть. Чего-чего, а энергии у него хоть отбавляй.
– Да, этого у него не отнять, – согласилась Гудрун. – Скажу больше, я еще ни разу не встречала такого мужчину. Вопрос в том, на что направлена его энергия, на что она тратится.
– На это просто ответить, – сказала Урсула. – На использование новейших устройств.
– Похоже, что так, – согласилась Гудрун.
– Ты знаешь, что он застрелил своего брата? – спросила сестру Урсула.
– Застрелил брата? – воскликнула Гудрун, хмурясь и этим выражая неодобрение.
– Неужели ты не знала? Я думала, знаешь. Они играли с ружьем. Джеральд велел брату смотреть в дуло, ружье оказалось заряженным, и у мальчика снесло полголовы. Не правда ли, жуткая история?
– Ужасная! – вскричала Гудрун. – Давно это случилось?
– О да! Они были совсем детьми, – сказала Урсула. – Это один из самых страшных случаев, какие я знаю.
– Он, конечно, не знал, что ружье заряжено?
– Естественно. Ружье было старое, много лет провалялось в конюшне. Никому даже в голову не приходило, что из него можно стрелять или что оно заряжено. Но какой ужас, что такое случилось!
– Страшно подумать! – воскликнула Гудрун. – И самое ужасное, что несчастье произошло с ребенком: ведь ему всю жизнь предстоит винить себя за это. Только вообрази себе, два мальчика играют вместе – и вдруг ниоткуда, безо всяких причин, на них обрушивается такое. Урсула, это очень страшно! Это одна из тех вещей, которые я не могу вынести. Убийство – куда ни шло: ведь за ним стоит чья-то воля. Но когда случается такое…
– Возможно, и тут не обошлось без некоего подсознательного импульса, – сказала Урсула. – За игрой в войну всегда стоит извечное желание убивать, ты так не думаешь?
– Желание! – холодно и даже несколько высокомерно проговорила Гудрун. – Не думаю, чтобы они играли в войну. Скорее всего один сказал другому: «Загляни в дуло, а я нажму на курок, и посмотрим, что будет». Нет сомнений – это чистой воды несчастный случай.
– Нет, – возразила Урсула. – Даже зная, что ружье не заряжено, я никогда бы не спустила курок, если б кто-то смотрел в дуло. Простой инстинкт не позволит этого сделать.
Гудрун помолчала, но было видно, что она не разделяет мнения сестры.
– Естественно, – проговорила она ледяным голосом. – Если ты женщина и к тому же взрослая, то инстинктивно удержишься от такого поступка. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к игре двух мальчишек.
Голос ее звучал сухо и раздраженно.
– Имеет, – упорствовала Урсула. В этот момент сестры услышали в нескольких метрах от себя громкий женский голос:
– Черт возьми!
Пройдя немного вперед, они увидели по другую сторону забора Лору Крич и Гермиону Роддайс; Лора Крич пыталась открыть калитку, чтобы выйти наружу. Урсула поторопилась прийти ей на помощь и подняла затвор.
– Большое спасибо, – поблагодарила ее раскрасневшаяся, похожая на амазонку Лора, выглядевшая немного смущенной. – Что-то не в порядке с петлями.
– Да, – согласилась Урсула. – Они очень тугие.
– Странно! – воскликнула Лора.
– Здравствуйте! – пропела с лужайки Гермиона, как только убедилась, что ее услышат. – Прекрасная погода! Гуляете? Хорошо. Не правда ли, молодая зелень просто великолепна? Такая красивая, такая яркая. Доброе утро, доброе утро… Вы ведь навестите меня? Большое спасибо. Значит, на следующей неделе, хорошо… до свидания, до свидания…
Гудрун и Урсула стояли, глядя, как она медленно кивает головой и, вымученно улыбаясь, машет рукой, как бы отпуская их. Странная, высокая, пугающая фигура с падающими на глаза густыми белокурыми волосами. Сестры двинулись дальше с ощущением, что им позволили уйти, – так отпускают подчиненных. Четыре женщины расстались.
Когда сестры отошли достаточно далеко, Урсула с пылающими от негодования щеками проговорила:
– Я нахожу ее невыносимой.
– Кого? Гермиону Роддайс? – спросила Гудрун. – Почему?
– Она ведет себя вызывающе.
– Что такого вызывающего ты в ней видишь? – холодно поинтересовалась Гудрун.
– Все ее поведение вызывающе. Это невыносимо. Она груба в обращении с людьми. Просто издевается. Нахалка. «Приезжайте меня навестить» – это говорится так, словно мы прыгать должны от счастья, что нас удостоили такой чести.
– Не понимаю, Урсула, почему это тебя так волнует? – спросила Гудрун, не в силах скрыть раздражения. – Всем известно, что независимые женщины, порвавшие с аристократическим окружением, всегда отличаются дерзким нравом.
– Но в этом нет необходимости, это вульгарно! – воскликнула Урсула.
– Я так не считаю. А если бы и считала – pour moi elle n’existe pas[6]. Я не допущу, чтобы она дерзила мне.
– Думаешь, ты ей нравишься?
– Конечно, не думаю.
– Тогда зачем она зовет тебя в Бредэлби погостить?
Гудрун пожала плечами.
– В конце концов, у нее хватает ума понять, что мы не такие, как все, – ответила она. – Уж дурочкой ее никак не назовешь. А я скорее предпочту иметь дело с тем, кто мне не нравится, чем с заурядной женщиной, цепляющейся за свой круг. Гермиона Роддайс многим рискует.
Урсула некоторое время обдумывала слова сестры.
– Сомневаюсь, – возразила она. – Ничем она не рискует. Мы что, должны восхищаться ею, зная, что она может пригласить нас, школьных учительниц, к себе без всякого риска для себя?
– Вот именно, – подтвердила Гудрун. – Подумай, ведь множество женщин не осмелились бы так поступить! Она лучшим образом использует свое положение. Думаю, на ее месте мы вели бы себя так же.
– Ну уж нет, – возразила Урсула. – Ни за что. Мне было бы скучно. Никогда не стала бы тратить время на подобные игры. Это infra dig[7].
Сестры напоминали ножницы, разрезающие все, что оказывается между ними, или нож и точильный камень – когда один затачивается о другой.
– Ей следует возблагодарить небо, если мы удостоим ее своим посещением, – неожиданно воскликнула Урсула. – Ты ослепительно красива, в тысячу раз красивее ее, она никогда такой не была и не будет, и, на мой взгляд, в тысячу раз лучше одета: ведь она никогда не выглядит свежей и естественной, как цветок, а, напротив, кажется старообразной и искусственной; и кроме того, мы многих умнее.
– Вне всякого сомнения! – согласилась Гудрун.
– И это следует признавать, – прибавила Урсула.
– Конечно, – сказала Гудрун. – Но со временем ты поймешь, что шикарнее всего быть совершенно обыкновенной, простой и заурядной, как женщина с улицы, создать своего рода шедевр – не копию такой женщины, а ее художественное воплощение…
– Какой ужас! – вскричала Урсула.
– Да, Урсула, это может показаться ужасным. Но надо изображать ту, что является поразительно à terre[8], настолько à terre, что ясно: это художественное воплощение заурядности.
– Скучно становиться тем, кто не интереснее тебя, – засмеялась Урсула.
– Очень скучно, – подхватила Гудрун. – Ты права, Урсула, это действительно скучно, ты нашла правильное слово. Хочется говорить высоким слогом и произносить речи в духе Корнеля.
Возбужденная собственным остроумием, Гудрун вся раскраснелась.
– Хочется быть лебедем среди гусей, – сказала Урсула.
– Точно! – воскликнула Гудрун. – Лебедем среди гусей.
– Все старательно играют роли гадких утят, – продолжала Урсула с шутливым смехом. – А вот я совсем не чувствую себя скромным и трогательным гадким утенком. Я на самом деле ощущаю себя лебедем в стае гусей и ничего не могу с этим поделать. Меня заставляют так себя чувствовать. И плевать, что обо мне думают. Je m’en fiche[9].
Гудрун бросила на Урсулу странный взгляд, полный смутной зависти и неприязни.
– Единственно правильная вещь – это презирать их всех, всех подряд, – сказала она.
Сестры вернулись домой, стали читать, разговаривать, работать в ожидании понедельника, начала занятий в школе. Урсула часто задумывалась, чего еще она ждет, помимо начала и конца рабочей недели, начала и конца каникул. И так проходит жизнь! Иногда ей казалось, что жизнь будет так длиться и дальше и никогда ничего в ней уже не изменится, и тогда Урсулу охватывал тихий ужас. Но она никогда с этим внутренне не примирялась. У нее был живой ум, а жизнь напоминала росток, который постепенно зрел, но еще не пробился сквозь землю.