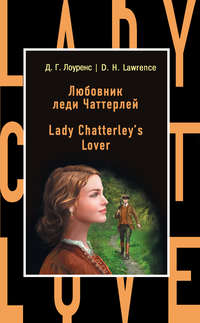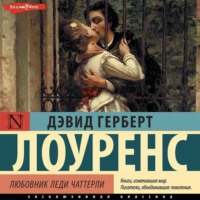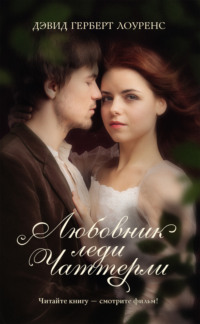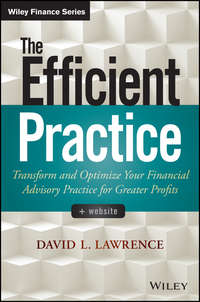Полная версия
Влюбленные женщины
Он тоже был не подарок. Отталкивал ее, всегда отталкивал. Чем больше она старалась стать ему ближе, тем яростнее он сопротивлялся. Они не один год были любовниками. Ах, как утомительны, как болезненны были их отношения, как она от них устала. Однако по-прежнему верила, что ей удастся с ним сладить. Она знала, что он хочет ее бросить. Знала, что он намерен окончательно с ней порвать, стать свободным. И все же продолжала верить в свою способность удержать его, верила в свое высшее знание. Его познания тоже были достаточно высокими – уж она-то могла определить истинную ценность человека. Да, союз с ним был ей необходим.
И этот союз, который для него был не менее важен, чем для нее, Руперт собирался отвергнуть с детским легкомыслием. Как капризный ребенок, он хотел разорвать связывавшие их священные узы.
Руперт не может не присутствовать на свадьбе: ведь он шафер жениха. И сейчас стоит в церкви, дожидаясь начала церемонии. Он знает, что она тоже будет здесь. Перед входом в церковь Гермиона не могла унять дрожь волнения и желания. Он там и, значит, увидит, как прекрасен ее наряд, и поймет, что она постаралась быть такой красивой ради него. Он поймет, не сможет не понять, что она предназначена ему раз и навсегда самим небом. Наконец-то он согласится принять свой высший жребий, на этот раз он ее не оттолкнет.
Дрожа от измучившего ее желания, Гермиона ступила в церковь и незаметно поискала Руперта глазами, ее стройное тело сотрясало волнение. Беркину как шаферу следовало стоять ближе к алтарю. Стараясь не выдать себя, Гермиона бросила осторожный взгляд в ту сторону.
Но его там не было. Ужас охватил Гермиону, ей казалось, что она тонет. Надежда ушла, оставив ее опустошенной. Машинально она приблизилась к алтарю. Никогда еще Гермиона не испытывала такую острую боль, такое полное и окончательное поражение. Это было хуже самой смерти, полная пустота, пустыня.
Жених и шафер еще не приехали. В толпе у церкви нарастало смятение. Урсула чувствовала себя чуть ли не виновной во всем. Мысль, что невеста прибудет и не найдет жениха в церкви, была невыносима. Свадьбе ничто не должно помешать – что бы там ни было.
Но вот показалась карета с невестой, украшенная лентами и кокардами. Серые кони резво несли ее к месту назначения – церковным воротам, из кареты несся смех. Задорный, радостный смех. Дверцу кареты распахнули, чтобы выпустить наружу очаровательную виновницу торжества. Недовольный ропот пробежал по толпе.
Первым из кареты – тенью в утреннюю свежесть – вышел отец, высокий, худой, изможденный человек с редкой черной бородкой, в которой поблескивала седина. Он застыл в терпеливом, самозабвенном ожидании у дверцы. В просвете появились нежная зелень и цветы, белоснежные атлас и кружева, и веселый голосок проговорил:
– Как мне отсюда выбраться?
По толпе пробежала волна удовлетворения. Люди теснились, чтобы быть ближе к невесте, жадно вглядывались в склоненную белокурую головку с приколотыми цветочными бутонами и ножку в белой туфельке, ищущую ступеньку. Невесту, как морскую пену прибоем, вынесло к отцу, и вот она уже стояла рядом с ним вся в белом, а ее вуаль колыхалась от смеха.
– Вот и я! – сказала она.
Облокотившись на руку болезненного отца и шурша пеной воздушных кружев, она ступила на все ту же красную ковровую дорожку. Молчаливый отец с нездоровым желтым цветом лица, казавшийся еще более изможденным из-за черной бороды, чопорно, словно был не в духе, поднимался по ступеням, но это никак не отражалось на невесте, чей смех звенел, как нежнейший колокольчик.
А жениха все не было! Урсула не могла этого вынести. С трепещущим от беспокойства сердцем она перевела взгляд на бежавшую вниз по холму дорогу, именно на ней должен был появиться экипаж жениха. И она увидела карету. Та мчалась с бешеной скоростью. Она приближалась. Да, это ехал жених. Урсула повернулась в ту сторону, где находились невеста и толпа зевак, и, видя со своего места всю картину целиком, издала нечленораздельный крик. Ей хотелось, чтобы все знали: жених уже почти здесь. Но ее возглас был столь же тих, сколь и невразумителен, и Урсула густо покраснела: смущение перевесило желание известить гостей.
А карета, громыхая, неслась вниз, приближаясь с каждым мгновением. В толпе послышались крики. Невеста, как раз достигшая верха лестницы, с веселым видом обернулась, желая знать причину шума. Она увидела движение среди собравшихся, подъехавший экипаж и жениха, который, выпрыгнув из кареты, обогнул лошадей и пробивался сквозь толпу.
– Сюда! Сюда! – крикнула она лукаво и весело. Залитая солнечным светом, она стояла на дорожке и махала букетом. Он же протискивался со шляпой в руке сквозь толпу и не слышал ее. – Сюда! – вновь выкрикнула она, глядя на жениха сверху вниз. В это время молодой человек случайно поднял глаза и увидел невесту и ее отца, стоявших наверху. Тень удивления пробежала по его лицу. Он колебался лишь мгновение, тут же приготовившись к рывку, чтобы нагнать девушку.
– А-а! – издала она необычный пронзительный крик и, повинуясь инстинкту, вдруг повернулась и бросилась изо всех сил бежать к церкви – только мелькали белые туфельки и развевалось платье. Подобно охотничьей собаке, молодой человек припустился за невестой; перепрыгивая сразу несколько ступенек, он пронесся мимо ее отца, сильные гибкие бедра работали четко, как у преследующей добычу гончей.
– Давай, лови ее! – кричали из толпы простолюдинки, охваченные охотничьим азартом.
А невеста, на которой живой пеной колыхались цветы, замерла на мгновение перед тем, как свернуть за угол церкви. Оглянувшись, она с громким смехом, в котором звучал вызов, удержала равновесие и, резко изменив направление, скрылась за серой каменной опорой. Через секунду жених, пригнувшись в стремительном беге, ухватился за каменный угол и мигом перенесся на другую его сторону – только мелькнули и скрылись гибкие сильные бедра.
Толпа у ворот взорвалась восторженными криками одобрения. Внимание Урсулы вновь привлекла мрачная, сутулая фигура мистера Крича – он по-прежнему стоял на ковровой дорожке, созерцая с бесстрастным лицом этот бег к церкви. Когда все закончилось, он огляделся и увидел позади себя Руперта Беркина, который тут же сделал несколько шагов вперед и встал рядом.
– Похоже, мы замыкаем шествие, – заметил Беркин с легкой улыбкой.
– Увы! – только и отозвался отец. И мужчины двинулись вперед по дорожке.
Беркин был такой же худощавый, как и мистер Крич, – бледный, болезненного вида, однако, несмотря на худобу, превосходно сложен. Он слегка приволакивал одну ногу, что происходило исключительно из-за застенчивости. Хотя одет он был в соответствии с торжественным событием, в его облике присутствовало нечто, не сочетаемое с парадной одеждой, что придавало ему несколько смешной вид. Его глубокая, оригинальная натура не подходила для стандартных ситуаций. Однако он приспосабливался к общепринятым нормам, переделывал себя.
Притворяясь обычным, заурядным человеком, он изображал это настолько искусно, подделываясь под окружение и быстро приспосабливаясь к собеседнику и его проблемам, что нисколько не выбивался из нормы, обретал расположение окружающих и не давал повода упрекать себя в неискренности.
Сейчас Беркин мягко и доброжелательно беседовал с мистером Кричем, шагая рядом с ним по дорожке; подобно канатоходцу, он тоже умел балансировать в разных ситуациях на натянутом канате, притворяясь, что отлично там себя чувствует.
– Сожалею, что мы так задержались, – говорил он. – Никак не могли отыскать крючок для застегивания пуговиц, пришлось самим застегивать туфли. А вот вы приехали вовремя.
– Как всегда, – отозвался мистер Крич.
– А я постоянно опаздываю, – сказал Беркин. – Но сегодня я был пунктуален как никогда, просто подвели обстоятельства. Мне очень жаль.
Мужчины тоже скрылись за углом – смотреть теперь было не на что. Урсула продолжала думать о Беркине. Он возбуждал ее любопытство, привлекал и одновременно раздражал.
Ей хотелось узнать его лучше. Раз или два она разговаривала с ним, но только в официальной обстановке, как с инспектором. Ей показалось, что он заметил некоторое родство между ними, – возникло естественное понимание, ощущаемое сразу же, когда люди говорят на одном языке. Но они провели вместе слишком мало времени, чтобы это взаимопонимание углубилось. К тому же ее не только влекло к нему – что-то и отталкивало. Она ощущала в мужчине скрытую враждебность, догадываясь о существовании некоего тайного уголка души, холодного и недоступного.
И все же ей хотелось его узнать.
– Что ты думаешь о Руперте Беркине? – спросила она Гудрун несколько неуверенным тоном. Ей претило его обсуждать.
– Что я думаю о Руперте Беркине? – повторила Гудрун. – Я нахожу его привлекательным, весьма привлекательным. Но я не выношу его манеру общения: с каждой маленькой дурочкой он говорит так, словно она ему безумно интересна. Чувствуешь себя просто обманутой.
– А почему он так делает? – спросила Урсула.
– У него отсутствует подлинное критическое чутье по отношению к людям и к ситуациям, – ответила Гудрун. – Говорю тебе, к любой дурочке он будет относиться так же, как к тебе или ко мне, а это оскорбительно.
– Да уж, – согласилась Урсула. – Надо уметь различать.
– Вот именно – надо уметь различать, – повторила Гудрун. – Но во всех прочих отношениях он отличный человек, яркая личность. Однако доверять ему нельзя.
– Да, – рассеянно согласилась Урсула. Ей всегда приходилось соглашаться с мнением Гудрун, даже если внутренне она его не разделяла.
Сестры молча сидели, дожидаясь, когда венчание закончится и молодожены и гости выйдут из церкви. Гудрун не стремилась говорить. Ей хотелось думать о Джеральде Криче. Хотелось знать, удержится ли надолго то яркое чувство, какое она испытала при виде его. Хотелось целиком сосредоточиться на этом.
А в церкви свадьба шла полным ходом. Гермиона Роддайс думала только о Беркине. Он стоял неподалеку. Ее тянуло к нему как магнитом. Ей хотелось все время касаться его. Иначе у нее пропадала уверенность в том, что он рядом. Но все же она покорно простояла одна всю церемонию венчания.
Пока он не приехал, она страдала так сильно, что до сих пор не пришла в себя. Что-то вроде невралгической боли продолжало терзать Гермиону, теперь ее мучила возможная потеря Беркина. Она дожидалась его приезда, находясь в состоянии легкого помешательства из-за непрекращающейся нервной пытки. Сейчас же она тихо стояла с выражением восторга на лице, казавшемся в этот момент ликом ангела, – духовность взгляда проистекала из страдания, и в нем было столько боли, что сердце Руперта разрывалось от жалости. Он видел ее склоненную голову, ее восторженное лицо, в экстатическом выражении которого было нечто демоническое. Почувствовав, что Руперт смотрит на нее, Гермиона подняла голову и устремила на мужчину горящий взгляд прекрасных серых глаз. Но он отвел свой взгляд, и тогда Гермиона опустила голову со стыдом и мукой, в ее сердце возобновились прежние терзания. Руперта тоже мучил стыд, смешанный с неприязнью, а также с острой жалостью: ведь он не хотел встречаться с Гермионой глазами, не хотел получать от нее никаких особых знаков внимания.
Невесту и жениха обвенчали, и все собравшиеся направились к выходу. В толчее Гермиона прижалась к Беркину. И он терпеливо это перенес.
До Гудрун и Урсулы доносились звуки органа, на котором играл их отец. Он обожал исполнять свадебные марши. Но вот появились молодожены. Звонили колокола, от чего дрожал воздух. Интересно, подумала Урсула, чувствуют ли деревья и цветы вибрацию и что они думают об этом странном сотрясении воздуха? Невеста со скромным видом опиралась на руку жениха, а тот, глядя прямо перед собой, бессознательно хлопал глазами, как бы не понимая, где находится. Он являл собой довольно комичное зрелище, моргал и всячески пытался соответствовать нужному образу, хотя ему было тяжело позировать перед толпой. Выглядел он как типичный морской офицер, мужественно выполняющий свой долг.
Беркин шел с Гермионой. Сейчас, когда она опиралась на его руку, у нее был восторженный, победоносный взгляд прощенного падшего ангела, хотя легкий намек на демонизм все же сохранялся. Лицо самого Беркина ничего не выражало; Гермиона завладела им, и он воспринимал это смиренно, как неизбежность.
Появился и Джеральд Крич, белокурый, красивый, пышущий здоровьем и неукротимой энергией, – в стройной фигуре ни единого изъяна, в приветливом, почти счастливом выражении лица изредка проскальзывало непонятное лукавство. Гудрун резко поднялась со своего места и пошла прочь. Она не могла больше этого выносить. Ей хотелось побыть одной, чтобы понять суть странной внезапной прививки, изменившей весь состав ее крови.
Глава вторая. Шортлендз
Брэнгуэны вернулись домой в Бельдовер, а тем временем в Шортлендзе, доме Кричей, собрались на свадебный прием гости. Дом был старинный – низкий и длинный, типичная барская усадьба, он тянулся вдоль верхней части склона, как раз за небольшим озерком Уилли-Уотер. Окна дома выходили на идущий под откос луг, который из-за растущих тут и там одиноких больших деревьев можно было принять за парк, на водную гладь озера и на поросшую лесом вершину холма, за которым находились угольные разработки. К счастью, сами шахты были не видны, об их существовании говорил лишь вьющийся над холмом дымок. Пейзаж был сельский – живописный и мирный, да и сам дом таил своеобразное очарование.
Сейчас он был весь заполнен родственниками и гостями. Почувствовавший себя неважно отец прилег отдохнуть. За хозяина остался Джеральд. Стоя в уютном холле, он легко и непринужденно общался с мужчинами. Похоже, ему нравилась его роль, он улыбался, излучая радушие.
Женщины слонялись по холлу, наталкиваясь то тут, то там на трех замужних дочерей семейства. Их характерные властные интонации слышались повсюду: «Хелен, подойди сюда на минутку», «Марджори, ты мне здесь нужна», «Послушайте, миссис Уитем…» Громко шуршали юбки, мелькали силуэты нарядных женщин, какой-то ребенок проскакал на одной ноге туда и обратно через холл, торопливо сновала прислуга.
Тем временем мужчины, разбившись на группки, болтали и курили, делая вид, что не замечают оживленной суеты женщин. Но из-за женской болтовни, перемежающейся возбужденным деланным смехом, разговор у них не клеился. Они напряженно выжидали и уже начинали скучать. Один Джеральд продолжал пребывать в счастливом и добродушном расположении духа, не замечая быстро текущего времени и праздного ожидания: ведь он был хозяином положения.
Неожиданно в холл бесшумно вошла миссис Крич и окинула всех внимательным властным взглядом. Она еще не сняла шляпку и продолжала оставаться в мешковатом синем шелковом жакете.
– Что случилось, мама? – спросил Джеральд.
– Ничего, совершенно ничего, – рассеянно ответила она, направившись прямиком к Беркину, который в тот момент разговаривал с одним из зятьев Кричей.
– Здравствуйте, мистер Беркин, – приветствовала она его своим низким голосом и, не обращая никакого внимания на остальных гостей, протянула ему руку.
– Миссис Крич, – произнес Беркин мгновенно изменившимся голосом. – У меня не было возможности подойти к вам раньше.
– Я не знаю здесь половины гостей, – продолжала она низким голосом. Ее зять неловко отошел в сторону.
– Вам неприятны незнакомцы? – рассмеялся Беркин. – Я и сам никогда не мог понять, почему нужно развлекать людей по той лишь причине, что они оказались в одной комнате с тобой, почему вообще нужно замечать их.
– Да, именно так, – поддержала его миссис Крич. – И все же от них никуда не деться. Я многих здесь не знаю. Дети представляют их мне: «Мама, это мистер такой-то». И это все. Что стоит за названным именем? И какое мне дело до этого человека и его имени?
Миссис Крич подняла глаза на Беркина. Женщина пугала его, но в то же время ему льстило, что она, почти не замечая других, сразу подошла к нему. Он глядел на ее напряженное, с крупными чертами, умное лицо, но избегал встречаться с серьезным взглядом голубых глаз. Зато обратил внимание на развившиеся и слипшиеся локоны, прикрывавшие изящные, но не вполне чистые уши. Ее шея также не блистала чистотой. Но даже несмотря на это, он ощущал родство с ней – она была ему ближе всех остальных гостей. А ведь он-то, подумал Беркин, моется тщательно – во всяком случае, и шея, и уши у него всегда чистые.
Он слегка улыбнулся своим мыслям. Однако оставался настороже, чувствуя, что он и пожилая, отчужденная от всех женщина ведут себя как заговорщики, как пятая колонна во вражеском стане. Этим он напоминал оленя, который одним ухом прислушивается, нет ли погони, а другим – что его ждет впереди.
– Вообще-то люди ничего особенного собой не представляют, – сказал Беркин, не желая затягивать разговор.
Миссис Крич бросила на него быстрый вопрошающий взгляд, как бы сомневаясь в искренности его слов.
– Что значит – не представляют? – резко спросила она.
– Мало кто из них – личности, – ответил Беркин, углубляясь против воли в проблему. – Они только и умеют молоть языком и хихикать. Без таких было бы куда лучше. Можно сказать, что они вообще не существуют, их здесь нет.
Пока он говорил, миссис Крич не спускала с него глаз.
– Но не мы же их выдумываем, – решительно возразила она.
– Их невозможно выдумать: они не существуют.
– Ну, я бы так категорично не утверждала, – сказала миссис Крич. – Как бы то ни было, они здесь. Не мне решать, есть они или их нет на самом деле. Я знаю только то, что не собираюсь считаться с ними. Нельзя требовать от меня, чтобы я знала их только потому, что они случайно оказались в моем доме. Что до меня, то пусть бы их вообще здесь не было.
– Вот именно, – поддержал ее Беркин.
– Вы согласны? – спросила она.
– Конечно, – опять согласился он.
– И все же они здесь – вот ведь какая неприятность, – продолжала миссис Крич. – Здесь мои зятья, – развивала она свой монолог. – Теперь вышла замуж и Лора, прибавился еще один. А я никак не могу отличить одного от другого. Они подходят ко мне, называют мамой. Я заранее знаю, что они скажут: «Как чувствуете себя, мама?» Мне следовало бы ответить: «Какая я вам мама?» Но что толку? От них никуда не денешься. У меня есть свои дети, и я могу отличить их от детей других женщин.
– Иного и ожидать нельзя, – сказал Беркин.
Миссис Крич удивленно подняла глаза, возможно, забыв о его существовании. И потеряла нить разговора.
Она рассеянно озиралась. Беркин не знал, кого она ищет и о чем думает. Очевидно, увидела сыновей.
– Мои дети все здесь? – внезапно спросила она. Пораженный и почти испуганный неожиданностью вопроса, Беркин рассмеялся.
– За исключением Джеральда, я их едва знаю, – ответил он.
– Джеральд! – воскликнула она. – Он самый уязвимый. Глядя на него, этого не скажешь, правда?
– Пожалуй, – согласился Беркин.
Мать устремила взгляд на старшего сына и некоторое время неотрывно смотрела на него.
– Ох, – издала она непонятный односложный возглас, прозвучавший достаточно цинично, отчего Беркин почувствовал безотчетный страх. Миссис Крич пошла прочь, позабыв о нем, но тут же вернулась.
– Хотелось бы, чтобы у него был друг, – сказала она. – У него никогда не было друга.
Беркин взглянул в ее голубые, серьезно смотрящие на него глаза. Смысл этого взгляда он постичь не мог. «Разве я сторож брату моему?»[4] – почти легкомысленно подумал он.
И тут же вспомнил, пережив некоторый шок, что слова эти принадлежат Каину. Если кто и был Каином, то как раз Джеральд. Но и его трудно назвать Каином, хотя он и убил своего брата. Существует такое понятие, как несчастный случай, и тут нельзя делать никаких далеко идущих выводов, пусть даже один брат убил другого. В детстве Джеральд случайно убил брата. И что? Зачем искать клеймо проклятия на том, кто стал виновником несчастного случая? Рождение и смерть человека случайны. Разве не так? Значит, каждая человеческая жизнь зависит от простого случая, и только расы, роды, виды стабильны и универсальны. Или все не так и случайности нет? И все имеет свою причину? Задумавшись, Беркин забыл о стоявшей рядом миссис Крич, как и она забыла о нем.
Нет, в случай он не верил. В каком-то глубинном смысле все связано между собой.
Как раз когда он наконец пришел к такому выводу, к ним подошла одна из дочерей семейства со словами:
– Мамочка, дорогая, пойди и сними шляпку. Через минуту все садятся за стол. Не забывай, у нас парадный обед. – Взяв мать под руку, она увела ее с собой. Беркин тут же вступил в разговор с мужчиной, стоявшим ближе других.
Прозвучал гонг на обед. Мужчины подняли головы, но не двинулись с места. Женщины тоже, казалось, не считали, что звук гонга относится к ним. Прошло пять минут. В дверях появился старый слуга Краузер, его лицо выражало растерянность. Он с мольбой посмотрел на Джеральда. Тот снял с полки крупную витую раковину и, не обращая внимания на присутствующих, подул в нее, издав оглушительный звук – необычный, возбуждающий, от него у всех сильней забилось сердце. Этот зов был почти магическим. Все тут же сбежались как по сигналу и дружно направились в столовую.
Джеральд какое-то время выжидал, предоставляя сестре право выступить в роли хозяйки. Он знал, что мать всегда с пренебрежением относится к своим обязанностям. Но сестра просто направилась к своему месту. Тогда он сам в несколько властной манере стал руководить рассаживанием гостей.
Наступило временное затишье: внимание гостей переключилось на hors d’оeuvres[5], которые стали разносить. В тишине отчетливо прозвучал спокойный, рассудительный голосок девочки лет тринадцати-четырнадцати с длинными распущенными волосами:
– Джеральд, ты не подумал об отце, когда издавал этот немыслимый рев.
– Разве? – отозвался Джеральд. И, обращаясь к гостям, пояснил: – Отец лег, он неважно себя чувствует.
– Как он сейчас? – спросила одна из замужних дочерей, выглядывая из-за огромного свадебного торта, высившегося посредине стола в блеске искусственных цветов.
– У него ничего не болит, но он чувствует себя усталым, – ответила Уинифред, девочка с длинными волосами.
Разлили вино, голоса зазвучали громче и непринужденнее. В дальнем конце стола сидела мать, ее локоны совсем развились. Соседом матери был Беркин. Время от времени она свирепо оглядывала лица гостей, подавалась вперед и бесцеремонно их рассматривала. Иногда она спрашивала Беркина низким голосом:
– Кто этот молодой человек?
– Не знаю, – осторожно отвечал Беркин.
– Я видела его раньше?
– Не думаю. Я лично не видел.
Такой ответ удовлетворял миссис Крич. Глаза ее устало смыкались, умиротворение разливалось по лицу, делая ее похожей на задремавшую королеву. Но она тут же вздрагивала, на лице возникала светская улыбка, и тогда на краткий миг она превращалась в гостеприимную хозяйку – любезно склонялась к гостям, всем своим видом показывая, как она им рада. Но это длилось недолго; почти сразу же по ее лицу вновь пробегала тень, взгляд обретал угрюмое, хищное выражение; она начинала взирать на всех исподлобья и даже с ненавистью, как затравленный зверь.
– Мама, – обратилась к ней Дайана, красивая девочка, чуть старше Уинифред. – Можно мне вина?
– Да, можно, – разрешила мать автоматически, не вдумываясь в суть просьбы.
И Дайана, подозвав к себе жестом слугу, попросила наполнить бокал.
– Джеральд не может мне запретить, – невозмутимо произнесла девочка, обращаясь ко всей компании.
– Все хорошо, Ди, – дружелюбно отозвался брат. Дайана глотнула из бокала, глядя на него с вызовом.
В доме царила атмосфера непривычной раскованности, граничащей чуть ли не с анархией. Это больше напоминало сознательный вызов авторитетам, чем подлинную свободу. К Джеральду, правда, прислушивались, но не потому, что он занимал определенное положение, а благодаря силе личности. В его мягком голосе присутствовала властная нотка – она заставляла повиноваться остальную молодежь.
Гермиона затеяла спор с новоиспеченным мужем по национальному вопросу.
– Я не согласна, – говорила она. – Мне кажется ошибкой, когда взывают к патриотическим чувствам. Это похоже на конкуренцию между фирмами.
– Как можно такое говорить? – воскликнул Джеральд, страстный спорщик. – Думаю, негоже сравнивать народы с доходными предприятиями, а ведь нацию можно в какой-то степени приравнять к народу. Мне кажется, это обычно и подразумевается.
Возникла небольшая пауза. Джеральд и Гермиона недолюбливали друг друга, но внешне держались подчеркнуто любезно.
– Ты полагаешь, что народ и нация – одно и то же? – проговорила Гермиона задумчиво и нерешительно.
Беркин понимал: она ждет, чтобы он вступил в спор. И покорно заговорил:
– Думаю, Джеральд прав: в основе любого народа лежит определенная нация – по крайней мере в Европе.
Гермиона опять выдержала паузу, как бы давая этому заявлению устояться. Затем заговорила с подчеркнутой уверенностью в своей правоте: