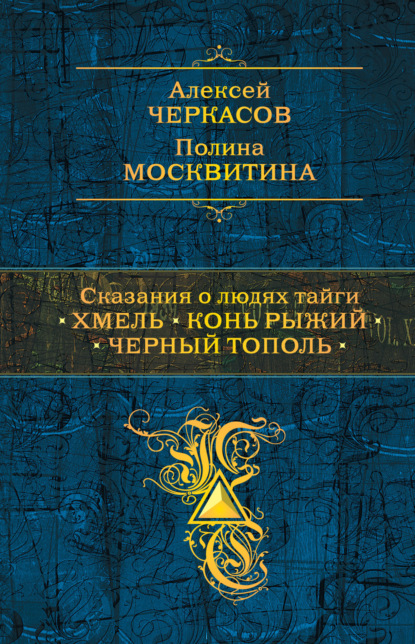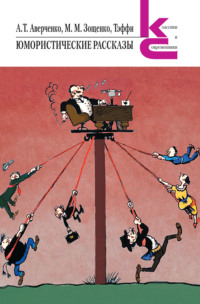Полная версия
Собрание избранных рассказов и повестей в одном томе
И сразу попу такой невозможный перетык вышел: дьякон Веньямин бубну кроет козырем, а учитель Гулька трефу почем зря бьет.
Очень тут заволновался поп и, под предлогом вечернего чая, вышел попить водички.
Выпил ковшичек и, идучи обратно, подошел к дверям матушки.
– Матушка, – сказал поп, – а матушка, не обижайся только, я насчет вечернего чая.
А в комнате-то матушки и не было. Поп на кухню – нет матушки, поп сюда-туда – нету матушки.
И заглянул тогда поп к технику. С дорожным техником в развратной позе сидела матушка.
– Ой, – сказал поп и дверь прикрыл тихонечко. И, на носочках ступая, пошел к гостям доигрывать.
Пришел и сел, будто с ним ничего не случилось.
Играет поп – лицо только белое. Картишки сдаст, головой мотнет, пальцами по столу потюкает, а сам такое:
– Сожрала нас рыбья самка.
И какая такая, скажите, рыбья самка?
И вдруг повезло попу. Учитель Гулька, скажем, туза бубен, а поп козырем, учитель Гулька марьяж виней отыгрывает, а поп козырем. И идет и идет к попу богатеющая карта.
И выиграл поп в тот вечер изрядно. Сложил новенькие бумажки и тяжко так улыбнулся.
– Это все так, – сказал, – но к чему такое гонение? К чему вселять дорожных техников?
А дьякон Веньямин и учитель Гулька обиделись.
– Выиграл, – говорят, – раздел нас поп, а будто и недоволен. И чайком даже, поповская ряса, не попотчевал.
Обиженные ушли гости, а поп убрал картишки, прошел в спальную комнату и, не дожидаясь матушки, тихонько лег на кровать.
5Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу.
Вот смешна, скажем, попова грусть, смешно, что попова жена обещала технику денег, да не достать ей, смешно и то, что сказал дорожный техник про матушку: старая старуха. А сложи все вместе, собери-ка в одно – и будет великая грусть.
Поп проснулся утром, крестик на груди потрогал.
– Верую, – сказал, – матушка.
А сказав «матушка» – вспомнил вчерашнее.
– Ой, рыбья самка! Сожрала, матушка.
И не то плохо, что согрешила, а то плохо, что обострилось теперь все против попа, все соединилось вместе, и нет ему никакой лазейки.
Оделся поп, не посмотрел на матушку и вышел из дому, не пивши чая.
Эх! И каково грустно плачут колокола, и какова грустная человеческая жизнь. Вот так бы попу лежать на земле неживым предметом либо такое сделать геройское, что казнь примешь и спасешь человечество.
Встал поп и тяжкими стопами пошел в церковь.
К полдню отслужив обедню, поп, по обычаю, слово держал:
– Граждане, – сказал, – и прихожане и любимая паства. Поколебались и рухнули семейные устои. Потух огонь в семейном очаге. Свершилось. И, глядя на это, не могу примириться и признать государственную власть…
Вечером пришли к попу молодчики, развернули его утварь и имущество и увели попа.
Старуха Врангель
1. Тонкое делоПо секретнейшему делу идет следователь Чепыга, по делу государственной важности. И, конечно, никто не догадается, что это следователь. В голову никому не придет, что это идет следователь.
Вышел человек подышать свежим воздухом – и только. А может, и на любовное свидание вышел. Потише, главное. Потише идти, и лицо чтоб играло, пело чтоб лицо – весна и растворение воздухов.
Иначе – пропал тончайший план. Иначе каждый скажет: «Эге, вот идет следователь Чепыга по секретнейшему делу!»
– Красоточка, – сказал Чепыга девушке с мешком. – Красоточка! – подмигнул ей глазом.
Фу-ты, как прекрасно идет! Тоненько нужно тут. Тоненько. А потом такое: а дозвольте спросить, не состоите ли вы в некотором родстве… Хе-хе…
Тут Чепыга остановился у дома. Во двор вошел. Во дворе – желтый флигель. На флигеле – доска. На доске – «Домовый Комитет».
– Прекрасно! – сказал Чепыга. – В каждом доме – комитет, в каждом доме, в некотором роде, государственное управление. Очень даже это прекрасно! Теперь войдем в комитет. Тек-с. Послушаем.
Два человека разговаривали негромко.
– Ну а о политике военных действий что, Гаврила Васильич? – спросил тенорок.
– О политике военных действий? Гм… С юга генералы наступают.
«Очень хорошо! – обрадовался Чепыга. – Войдем теперь».
В комнату вошел и спросил, сам голову набок:
– Уполномоченного Малашкина мне. По секретному. Ага! Вы гражданин Малашкин? Очень прекрасно. А дозвольте спросить, кто в квартире тридцать шестой проживает? Да-с, в тридцать шестой квартире. Именно в тридцать шестой.
У Гаврилы Васильича острый нюх. Гаврила Васильич почтительно:
– Старуха проживает. Старуха и актер проживают.
– Ага, актер? – удивился Чепыга. – Почему же актер?
– Актер-с. Как бы сказать – жильцом и даже на иждивении.
– Гм… На иждивении? Расследуем и актера. Ну а в смысле старухи, не состоит ли старуха в некотором родстве, ну, скажем, с генералами с бывшими или с сенаторами? Да, вот именно, с сенаторами не состоит ли в родстве?
– Неизвестно, – ответил Гаврила Васильич. – Старуха, извиняюсь, небогатая. Сын у ней на войне пропал. Жалкует и к смерти готовится. У ней и местечко на Смоленском заказано. Тишайшая старуха.
А следователь свое:
– Расследуем старуху. По долгу, – говорит, – государственной важности расследуем и старуху, и актера. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.
2. СледствиеАктер лежал на кровати и ждал Машеньку. Если не сробеет, то придет сегодня Машенька.
Актер лежал на кровати как бы с некоторой даже томностью.
– Ентре, Машенька, – сказал актер, когда Чепыга постучал в дверь костяшками. – Ентре, пожалуйста.
«Тут нужно чрезвычайно тоненько повести дело», – подумал Чепыга и к актеру вошел.
– Извиняюсь! – обиделся актер.
А следователь прямо-таки волчком по комнате.
– Дозвольте, – говорит, – пожать ручку. Собственно, к старухе я. Однако некоторое отсутствие старухи принуждает меня…
– Ничего, – сказал актер, – пожалуйста. Только сдается мне, что старуха пожалуй что и дома.
– Нету-с. То есть придет сейчас. А дозвольте пока, из любопытства я, спросить, не состоите ли вы в некотором родстве с подобной старухой?
– Не состою, – ответил актер. – Я, батенька мой, артист, а старуха, ну, как бы вам сказать, – зритель.
– Тек-с, очень хорошо! – удивился Чепыга. – Гм… Зритель… Вижу образованнейшего человека… Так, может быть, вы с сенаторами какими-нибудь в родстве?
Тут актер и с кровати приподнялся и в Чепыгу дым струйкой.
– Угу, – говорит, – с сенаторами… А насчет старухи какое тут родство: темная старуха – и артист. Я, батенька мой, человек искусства.
– Вижу образованнейшего человека, – бормотал Чепыга. – И книг чрезвычайное множество… И книги эти читать изволите по профессии?
– М-да, – сказал актер, – читаю и книги по профессии. К «Ниве» тут приложение – писатель Максим Горький.
– Тек-с, русская литература. Ну а касаясь иностранной, южной, может быть, новиночки, через передачу. Из любопытства опять- таки.
– Из иностранной – роль Гамлета, английского писателя.
– Удивительно, совершенно удивительно… «Гм, однако, какого же вздору я нагородил, – подумал Чепыга. – И он-то как глаз отводит. Вот умная бестия! Гм, и к чему бы это мне про книги? Да, касаясь южной новиночки, через передачу. Опутать может. Ей-богу, опутает».
«Восьмой час, – подумал актер, вздыхая. – Сробеет Машенька. Непременно сробеет… А молодой-то человек общительный – про книги интересуется».
– Вы, кажется, про книги интересуетесь? – спросил он Чепыгу. – Так вот тут – Гамлет. Я, знаете, все больше на трагических ролях. Мне все говорят: «Наружность, – говорят, – у вас трагическая». И я, действительно, не могу, знаете ли, шутом каким-нибудь… Я все больше по переживаниям…
«Ох, – испугался Чепыга, – плохо! Нельзя так. Не такой это человек, чтобы тоненько. Тут напрямик нужно».
Застегнул Чепыга пиджак на две пуговицы и встал.
– По делу, – говорит, – службы должен допросить вас и установить.
Испугался актер.
– Как? За что же установить? За что же допросить, господин судебный следователь, извиняюсь?
«Сгрябчит, – подумал актер, – как пить дать, сгрябчит…»
А следователь и руки потирает.
– Не состоите, значит? Значит, так-то вот и не состоите? А если, скажем, старуха призналась, выдала… Если, скажем, пришла сегодня старуха, гуляючи пришла и, дескать, так и так – выдала…
– Не состою, господин следователь.
– Гм, – сказал Чепыга, – прекрасно. Фу-ты, как прекрасно! А не скажете ли мне, касаясь сборищ тайных у старухи, тайных собраний. И не приходил ли кто к старухе в смысле передачи корреспонденции?
У актера очень дрожали руки.
– Приходили, господин следователь. Супруга уполномоченного Малашкина приходила… Только я, господин следователь, с детских лет предан искусству. А к старухе, точно, Малашкина приходила. Сегодня и приходила. Сначала про жизнь, господин следователь, дескать, плохая жизнь. Так и сказала: «Плохая, – говорит, – господин судебный следователь, жизнь». А потом о политике военных действий, дескать, с юга, извиняюсь, наступают, господин следователь. А Малашкина все старухе такое: «Чего ж, – говорит, – господин судебный следователь, от счастья своего отказываться?» А старуха отмахивается, отвергает, одним словом: «Не может, – говорит, – быть того, чтоб Мишенька мой в генералы вышел». Так и сказала: «В генералы, – говорит, – господин следователь, вышел».
– Дальше, – строго сказал Чепыга.
– А дальше, господин следователь, в комнате шу-шу-шу, а о чем, извиняюсь, не слышал. А я, господин следователь, со старухой не состоял и не состою и, не касаясь политики, с детских лет по переживаниям. Старуха же так и сказала: «Плохая, – говорит, – жизнь». А если я дымом в лицо, господин судебный следователь, недавно побеспокоил вас, струйкой, по легкомыслию, – извиняюсь.
Следователь Чепыга любовно смотрел на актера.
3. Почетный гражданин– Тру-ру-рум, – тихо сказал Малашкин и в комнату вошел. – Тру-ру-рум… А я на секундочку взошел. Я к вам, господин следователь, пожалуйста. По освобождении от дел государственных – ко мне, господин следователь. На чашечку с сахаром. Только извиняюсь, совершеннейше вздорный слух, касаясь супруги моей. Совершенный вздор, господин следователь. По злобе характера подобное можно сказать. И, между прочим, не пойдет супруга моя к явной преступнице. Да и вообще ни с кем-то она не знается и видеть никого не может. Бывало, сам принуждаю: «Пойди, – говорю, – к кому-нибудь, отведи душу от земных забот». – «Нет, – говорит, – Гавря, не пойду, – говорит, – видеть не могу старухи этой!» Подобное по злобе только можно сказать… Так, значит, на чашечку с сахаром. Тру-ру-рум, господин следователь. А вам, гражданин актер, – стыдно-с! Вы собирайтесь. Они, господин следователь, из бывших потомственных почетных граждан, так сказать – барин. Вы, почетный актер, собирайте манатки. Следователь вас сейчас арестует.
– Да, – сказал Чепыга, – арестую. По делу службы арестую. Вы, гражданин Малашкин, за ним последите, а я сейчас. Я сейчас… очная ставка… Алиби… Лечу…
Актер, качаясь, сидел на кровати.
– Эх, – говорит, – Малашкин, Малашкин, и что я тебе худого сделал, Малашкин? Почетный, – говорит, – гражданин и барин… Убийца ты, Малашкин! Грех ты большой взял на душу. Сгрябчут ведь теперь меня, Малашкин. И за что? За что, пожалуйста, сгрябчут? С детских лет служу чистому искусству… С детских лет и не касаясь политики…
Малашкин на актера не смотрел.
4. ПаутинаМышино-тихая пришла старуха и села в угол. А следователь рукой по воздуху – дескать, вот наисерьезнейший момент. Следователь волчком по комнате. Следователь ныряет и плавает. Следователь то к Малашкину, и ему быстренько:
– Попрошу слушать. Попрошу слушать и, слушая, подписом заверить показанное.
То к старухе, и даже с некоторой нежностью в голосе:
– Дозвольте установить, спросить, так сказать, о драгоценном здравии ваших родственников. И кто подобные? И где проживают? И переписочку не ведут ли некоторую?
Неподвижная сидела старуха в углу. У старухи серые глаза, и платье серое, и сама старуха – серая мышь. И идет как мышь, и сидит как мышь. И никак не поймет старуха, какой толк в словах тонконогого.
А тонконогий в волнении необычайном.
– Да, – говорит, – именно я так и хотел сказать: переписочка. Письмишко какое-нибудь. Письмишко от известного вам лица… Скажем, родственник вам генерал… ну… ша… ша… приблизительно. Из любопытства я. Ну пожалуйста! Родственник. Ну а как родственнику не написать? Непременно напишет. Не такой он человек – родственник, чтоб письма не написать. Ну и вот. Вот вам и письмишечко от известного лица. Он вам письмишечко о событиях, дескать – наступаю… Вы ему цидулочку, дескать – ага и так далее. Вы ему цидулочку, а он вам письмишко. И ведь совершенно, как видите, кругленькая выходит переписка. И корреспонденция через передачу. И кто передача? И что через передачу? Пожалуйста. Не так ли? Фу, ведь беспокоитесь же – как-то он там… Болезни ведь всякие, печали и воздыхания…
– Беспокоюсь, – заплакала вдруг старуха, – как-то это он там. Беспокоюсь… Сердце прямо-таки сгнило, до того беспокоюсь… Болезни и воздыхания. Вот спасибо-то вам, молодой человек! Вот спасибо-то!
Пело, играло лицо следователя Чепыги.
«Ох! И до чего кругленько и как кругленько выходит все…» А Чепыга опять волчок, Чепыга опять плавает и ныряет. Чепыга к актеру с неизъяснимым восторгом:
– Ой, – говорит, – не угодно ли? И вы отвергаете, и вы родством таким пренебрегаете? Обидели вы меня, молодой человек. Весьма и очень обидели. Ну так я сейчас.
И опять старухе.
– Дозвольте, разрешите еще словечко… Этот прекраснейший молодой человек… Ну да, я так и хочу сказать, родственник ли вам он будет?
– Нет, – ответила старуха, – нет, не родственник. Но я, молодой человек, к нему как мать родная. Ему я заместо матери. Спасибо вам, молодой человек!
– Ох! – задрожал актер. – Ох, господин следователь, врет ведь старая старуха… Не знаю я ее. Темная старуха и зритель… А я сам по себе, с детских лет по переживаниям.
– Довольно, – строго сказал Чепыга. – Оба арестованы. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.
5. РазнотыкПосадили старуху и актера пока что в общую камеру. А в камере той сидел еще один человек. Был он совершенно не в себе. Кричал, что ни сном ни духом не виноват, масла же, дескать, у него точно было четыре фунта и мука белая для немощи матери. «Не для цели торговли, господа, а для цели матери».
Человек этот привел актера в совершенное уныние. Актер вовсе ослаб, похудел и сидел на койке, длинно раскачиваясь.
«За что же схватили, господи? Тоже ведь ни сном ни духом. И хорошо, если суд. Судить будут. Слово дадут сказать. Так и так, народные судьи, пожалуйста… А если к стеночке? В подвал и к стеночке?»
Нехорошо было актеру, мутно.
«Что ж, если и суд? Ну что сказать? Пропал. Ни беса ведь не смыслю по юридической… Господа судьи… Присяжные заседатели…»
Не шли слова. Все разнотык. Все разнотык лезет, а плавности никакой.
«Господа народные судьи, чувствую с детских лет пристрастие к чистому искусству Мельпомены, которая… И не касаясь политики… Разнотык. Совершенный разнотык! Могут расстрелять. И за что же, господи, расстрелять? В темницу ввергли и расстреляли. Ругал, скажут, государственную власть, поносил… Да ведь никто же не слышал… Малашкин это. Малашкин это донес. Ох, Малашкин, убийца! Этакую штуку ведь сказал: почетный, – говорит, – гражданин и барин… Ага, скажут, барин… Поставьте-ка, скажут, барина харей к стенке… А ведь я, может быть, всей душой и не касаясь политики…
Господа народные заседатели, чувствуя к искусству Мельпомены, которая… и не касаясь политики… с детских лет по переживаниям.
Плохо. Очень просто, что расстреляют. Мамаша покойная плакала: кончи, – говорит, – Васенька, гимназию – по юридической пойдешь… Так нет – в актеры. А очень великолепно по юридической. Дескать, господа народные заседатели, пожалуйста».
Решил актер, что расстреляют его непременно. И с тем заснул.
А ночью пришли к нему люди в красных штанах. Надели на голову дурацкий колпак и за ногу потащили по лестнице.
Актер кричал диким голосом:
– За что же за ногу? Господа народные заседатели, за что же за ногу?!
А утром проснулся актер и похолодел.
«Сегодня конец… А может, и не жалко жизни? А ведь и не жалко жизни. Да только Машенька придет. Машенька плакать будет. А он у стенки встанет. В подвале. Не завязывайте, – скажет, – глаза, не надо. Все. С детских лет, господа народные судьи…»
В серо-заляпанное окно бил дождь. И капли дождя сбегали по стеклу и мучили актера.
Старуха тихо сидела на койке и бездумно смотрела в окно.
А черный человек ходил меж койками и все свое, все свое:
– И ведь, господа, не для цели торговли, для цели матери.
6. Конец старухиЧерез три дня их выпустили. Да, открыли камеру и выпустили.
– Идите, сказали, куда пожелаете.
И вышли они на улицу.
Тихонько, мышью вернулась старуха домой и заперлась в комнате. А томно-похудевший актер ходил до вечера по знакомым и говорил трагически:
– Поставили меня, а я такое: не завязывайте, – говорю, – глаза, не надо. Курки щелкнули гулко. Только вдруг вбегает черный такой человек. Этого, – говорит, – помиловать, остальных казнить. И руку мне пожал. Извините, – говорит, – что так вышло.
А вечером к актеру Машенька пришла. Актер плакал и целовал Машенькины пальцы.
– Оборвалось, говорил, Машенька, что-то в душе. Надломилось. Не тот я теперь человек. Не нужно мне ни славы, ни любви. Познал жизнь воистину. Раньше многое терпел в достижении высокой цели. Славы жаждал. А теперь, Машенька, уйду со сцены – ни любви, ни славы не нужно. Раньше терпел от Зарницына. Прохвост Зарницын, Машенька. Думает – режиссер, так и все позволено. Гм, руки, – говорит, – зачем плетью держите? Эх, Машенька, усилить нужно, трагизм положения усилить нужно! Положи руки в карман – шутовство и комедия. Не понимают. Терпел, а сейчас не могу. Пропал я, Машенька! Жизнь познал и смерти коснулся. И умри я, Машенька, ничто не изменится.
Ночью, когда актер целовал Машеньку и говорил, что еще прекрасна жизнь и еще радость и слава впереди, ночью за стеной тихо померла старуха.
И никто не удивился и не пожалел – напротив, улыбнулись: одной, дескать, старушкой меньше. А похоронили старуху не на Смоленском, где было местечко заказано, а почему-то на Митрофаньевском.
Рассказ про попа
Утро ясное. Озеро. Поверхность этакая, скажем, без рябинки. Поплавок. Удочка.
Ах, ей-богу, нет ничего на свете слаще, как такое препровождение времени!
Иные, впрочем, предпочитают рыбу неводом ловить, переметами, подпусками, мережками, английскими со звонками приспособлениями… Но пустяки это, пустяки. Простая, натуральная удочка ни с чем не сравнима.
Конечно, удочка нынче разная пошла. Есть и такая: с колесиками вроде бы. Леска на колесико накручивается. Но это тоже пустяки. Механика. Ходит, скажем, такой рыбарь по берегу, замахнется, размахнется, шлепнет приманку и крутит после.
Пускай крутит. Пустяки это. Механика. Не любит этого поп Семен. Попу Семену предпочтительней простейшая удочка. Чтоб сидеть при ней часами можно, чтоб сидеть, а не размахиваться и не крутить по-пустому, потому что если крутить начнешь, то в голове от того совершенные пустяки и коловращение. Да и нету той ясности и того умиротворения предметов, как при простой удочке.
А простая, натуральная удочка… Ах, ей-богу! Сидишь мыслишь. Хочешь – о человеке мыслишь. Хочешь – о мироздании. О рыбе хочешь – о рыбе мыслишь. И ни в чем нет тебе никакого запрета. То есть, конечно, есть запрет. Но от себя запрет. От себя поп Семен наложил запрет этот.
Обо всем поп Семен проникновенно думал, обо всем имел особое суждение и лишь об одном не смел думать – о Боге. Иной раз воспарится в мыслях – черт не брат. Мироздание – это, мол, то-то и то. Зарождение первейшей жизни – органическая химия. Бог… Как до Бога доходил, так и баста. Пугался поп. Не смел думать. А почему не смел, и сам не знал. В трепете перед Богом воспитан был. А отрывками, впрочем, думал. Тихонечко. Мыслишку одну какую-либо допустит – и хватит. Трясутся руки. А мыслишка – какой это Бог? Власть ли это созидающий или иное что.
И после сам себе:
– Замри, поп Семен. Баста! Не моги про это думать…
И про иное думал. Отвлекался другими предметами.
А кругом – предметов, конечно, неисчислимое количество. И о каждом предмете свой разговор. О каждом предмете – разнохарактерное рассуждение. Да и верно: любой предмет, скажем, взять… Нарочно взять червячишку дождевого самого поганенького. И тотчас двухстороннее размышление о червячишке том.
Прежде – откуда червяк есть? Из прели, из слизи, химия ли это есть органическая или тоже своеобразной душонкой наделен и Богом сделан?
Потом о червяке самом. Физиология. Дышит ли он, стерва, или как там еще иначе… Неизвестно, впрочем, это. Существо это однообразное, тонкое – кишка вроде бы. Не то что грудкой, но и жабрами не наделен от природы. Но дошла ли до этого наука или наука про это умалчивает – неизвестно.
Ах, ей-богу – великолепные какие мысли! Не иначе как в мыслях познается могущество и сила человека…
Дальше – поверхностное рассуждение, применимое к рыбной ловле… Какой червяк рыбе требуется? А рыбе требуется червяк густой, с окраской. Чтоб он ежесекундно бодрился, сукин сын, вился чтоб вокруг себя. На него, на стервеца, плюнуть еще нужно. От этого он еще пуще бодрится, в раж входит.
Вот, примерно, такое могущественное, трехстороннее рассуждение о поганом червяке и также о всяком предмете, начиная с грандиозных вещей и кончая гнусной, еле живущей мошкой, мошкарой или, скажем, каракатицей.
От мыслей таких было попу Семену величайшее умиротворение и восторг даже.
Но Бог… Ах, темная это сторона! Вилами все на воде писано… Есть ли Бог или нету его? Власть ли это? А ежели власть, то какая же власть, что себя ни в какой мере не проявит? Но:
– Замри, поп Семен, баста!
И, может быть, так бы и помер человек, не думая про Бога, но случилось незначительное происшествие. Стал после того поп сомневаться в истинном существовании Бога. И не то чтобы сам поп Семен дошел до этого путем своих двухсторонних измышлений – какое там! Встреча. С бабой была встреча. С бабой был разговор. От разговора этого ни в какой мере теперь не избавиться. Сомненья, одним словом.
А пришел раз поп к озеру. Утро. Тихая такая благодать. Умиротворение… Присел поп Семен на бережок…
«Про что же, – думает, – сегодня размышлять буду?»
Червяка наживил. Плюнул на него. Полюбовался его чрезмерной бодростью. Закинул леску.
– Ловись, – сказал, – рыбка большая, ловись и маленькая.
И от радости своего существования, от сладости бытия засмеялся тихонечко.
Вдруг слышит смех ответный. Смотрит поп: баба перед ним стоит. Не баба, впрочем, не мужичка то есть, а заметно, что из города.
«Тьфу на нее, – подумал поп. – Что ей тутотко приспичило?»
А она-то смеется, а она-то юбкой вертит.
– Пи-пи-пи… А я, – говорит, – поп, учительница. В село назначена. Значит, будем вместе жить. А пока – гуляю, видишь ли. Люблю, мол, утром.
– Ну что ж, и гуляйте, – сказал тихонько поп.
Смеется.
– Вот, – говорит, – вы какой! Я про вас, про философа, кой-чего уже слышала.
«Ну и проходите, мол, дальше!» – подумал поп.
И такое на него остервенение напало – удивительно даже. Человек он добрый, к людям умилительный, а тут – неизвестно что. Предчувствие, что ли.
– А чего, – говорит, – слышала?
– Да разное.
Она на него смотрит, а он сердится.
– Чего, – говорит, – смотрите? На мне узоров нету…
И такая началась между ними нелюбезная беседа, что непонятно, как они уж дальше говорить стали.
Только поп слово, а она десять и даже больше. И все о наивысших материях. О людях – о людях. О церкви – о церкви. О Боге – о Боге… И все со смешком она, с ехидством. И все с вывертами и с выкрутасами всякими.
Растерялся даже поп. Неожиданность все-таки. Больше все его слушали, а тут – не угодно ли – дискуссия!
– Церковь? И церкви вашей не верю. Выражаю недоверие. Пустяки это. Идолопоклонство. Бог? И Бога нету. Все есть органическая химия.
Поп едва сказать хочет:
– Позвольте, мол, то есть как это Бога нет? То есть как это идолопоклонство?
А она:
– А так, – говорит, – и нету. И вы, – говорит, – человек умный, а в рясе ходите… Позорно это. А что до храмов, то и храмы вздор. Недомыслие. Дикарям впору. Я, мол, захожу в храмы, а мне смешно. Захожу как к язычникам. Иконы, ризки там всякие, святые – идолы. Лампадки – смешно. Свечи – смешно. Колокола – еще смешнее. Позорно это, поп, для развитых людей.
И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой неимоверной заявила про Бога: нету, дескать. Сами-то не верите. Или сомневаетесь.