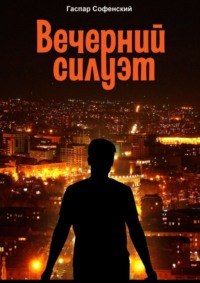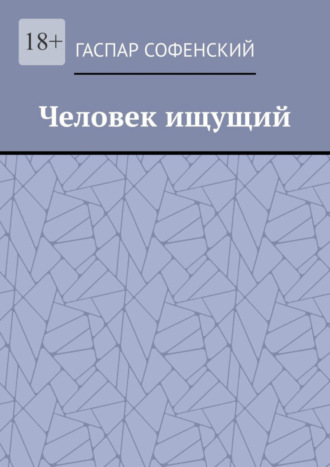
Полная версия
Человек ищущий
– Ты, ошибаешься ты. Как все недалекие, и не знающие самих себя, полагают, будто умеют все. Нет, друг мой заокеанский. Говори, что хотел.
Как Эдита ни дергала ее руку, а Маша испепеляла сурово-умоляющим взглядом, одернуть Карину от еще одной взбучки было уже невозможно.
– Вами владеет тщеславие, создает ощущение нахождения на высоте, когда на самом деле вы не выше вон того таксиста. Посмотри, он даже не потрудился сменить домашние тапочки. Жду, американ бой, начни очаровывать красивую девушку.
Мужчины не сразу нашлись с ответом. Они обменялись короткими ошарашенными взглядами, думая над немым вопросом, что за ненаглядный фрукт так смело набросился на них.
Первым заговорил мужчина в кремовом пиджаке.
– Уважаемая девушка, если наши слова каким-то образом задели вас, прошу нас извинить. Но со своей стороны я требую от вас вежливости. Вы не знаете, кто этот человек. Он всего лишь задал вам вопрос.
Второй с нескрываемым изумлением таращился на Карину. Десятки чувств, сотня вопросов смешались в нем. Все, кроме смущения.
– Как ты узнала, что я из Америки? – выдавил он.
– Мне по избранной профессии надлежит разбираться в голосах.
– Ты музыкант?
– Не обращайтесь ко мне на «ты». Мы не воевали бок о бок за Арцах. Идем, – обратилась она к подругам. – Я надеялась хоть на какое-то разнообразие от человека из Америки. Но нет, все одинаковые, корыстные властолюбцы.
Карина разочарованно свесила голову, и зашагала дальше. Подруги семенили следом, бросая украдкой взгляды на застывших, пришибленных невиданной дерзостью мужчин. На перекрестке с проспектом Саят-Новы Инга нарушила молчание:
– Ты сумасшедшая. Ты просто… не нахожу слов.
– Верно, – подхватила напуганная Эдита. – Зачем грубить всем без разбора? Когда-нибудь навлечешь на себя беду таким поведением.
– Как можно не нагрубить слабовидящему, если он упорно отказывается надеть очки? Твердит тебе: «нет, это не я слепой, это мир размыт!»
– О чем ты говоришь!? – сокрушалась Эдита.
– Господи, я чуть с ума от страха не сошла! – воскликнула Маша.
– Никто не хочет признавать свою ущербность, признать в себе примата, – рассуждала Марьян будто сама с собой. – А как побороть то, чего, по-твоему, не существует? Все забыли, что за чудо человек, и какие феномены может творить.
– Что за глупости! А ты не хочешь признать, что ворчишь без оглядки как старый маразматик? – парировала Маша. – Нет никого, с кем бы ты не поругалась. Мы, твои подруги, забудем любую обиду, но ругаться с незнакомцами – это не только глупо, но и опасно.
– Глупо, опасно. – Карина вновь заскучала. – Обида. Ты права, я ворчу как старый дед.
– Знаешь, в чем твоя беда? – сказала Инга спокойнее. – У тебя внешность слабой девушки, а душа воина.
– Предлагаю дать Карине кличку «Размик». Что скажете?
Подруги тускло усмехнулись.
– Думайте, что угодно. Завтра вы вернетесь к своим делам, опуститесь еще на один шаг в сторону вашей смерти, а я… – она вздохнула. Как всегда после бесплодных, истощающих споров, все вокруг смеркалось, мир терял краски, а беснующийся внутри крестоносец ложился на землю, снимал панцирь, и закрывал глаза. Понимая, что времени на отдых мало, скоро битва возобновится дома, а потом завтра, и так всегда, ей хотелось остановить мгновенье умиротворения, редкую частичку спокойствия в ее бесконечной войне с миром, абсолютно безнадежной.
Карина проехала в тесной маршрутке, борясь с желанием броситься на иссохшего, безобразного водителя в скомканном шерстяном свитере, заросшем бурьяном катышек. Один взгляд на него навевал ужас от понимания всей низости, в которую способен загнать себя человек.
***
Душевное дребезжание усилилось дома спустя час одинокого пребывания. Обычно с четырех до пяти часов матери не было дома, она либо обходила близлежащие магазины, либо сидела у соседки за чашкой кофе. Иногда Карина заходила к соседке и торопила мать домой, но сегодня ей особенно опротивело все то, с чем она сталкивается каждый день. Чувство жалости к матери, скованной рутинными и изматывающими домашними делами, бесконечными приемами гостей, походами по гостям и связанными с ними заботами, чьей единственной отдышкой является предвечернее чаепитие у подруги под скучнейшие темы о ценах, мастерстве тех или иных портних, помощи или бесполезности различных лекарств при скачках давления, призывало Карину помыть за нее посуду, чем она и занялась несколько минут. Затем села за письменный стол своей спальни, достала учебник по резонансному пению, и на несколько минут окунулась в чтение. Мысли никак не собирались вокруг книги, перескакивая с советов госпожи Арфении на двух оскорбивших ее негодяев, и вновь сходясь на искаженности всего окружающего.
Как все подло, лживо и притворно, думала она, захлестываемая приливами возмущения. Предрассудки, искаженные толкования, неверные обобщения и преступные упрощения таких необъятных понятий, как человеческий мир и человеческие отношения, приводят в итоге к закостенению общества и остановке его развития. Его смрадное дыхание чувствуется все невыносимее с каждым однообразным днем. Куда ни обратись, всё одинаковые одеревенелые, помертвелые лица, с бегающими в поисках тепленького уголка глазами, либо уже нашедшие его, и озирающиеся хорьковыми взглядами, как бы не лишиться уютного мирка, в котором не нужно прикладывать усилий, менять устоявшийся образ, будь то неспешная послеобеденная прогулка, или пристрастие к загородным поездкам. Каждый загнал себя в клетку, мягкую или удушливую, но всегда запертую. И чем выше статус человека, тем золотистее отведенная ему клетка. И он с великой радостью прыгает в нее, зная, что здесь ему не придется дрожать за будущее. Самый сильный инстинкт – страх смерти – преодолен. Вот тебе и хорошая зарплата, лицемерная свинка, ты лишь делай, что я скажу. Взамен уберегаю тебя от жизненных бурь, отгораживаю от ужаса твоей трусливой сущности, а именно необходимости бороться. Со временем ты и позабудешь о своей ничтожности, возомнишь себя дельным, ловким, рассудительным. Разумеется, когда-нибудь настанет день, когда кто-то, проходя мимо, шутки ради захочет выломать твой замок, и вытолкнуть тебя на свободу. О, как ты затрепещешь! Не привыкший к холоду, ветру, выгнанный из уютной крыши, ты мигом поймешь всю свою никчемность. Так не высовывайся, выполняй поставленные задачи, и надейся не попасться на глаза этому шкодливому вольнодумцу, забавляющемуся выталкиванием узников.
Карина сама не могла объяснить причину столь сильного страха прожить жизнь так же, как все. Где она, если не в ужасном Стиксе, несущем очередную жертву в царство мертвых? Лишенная всякой возможности даже не приобщения к миру, но хоть прикосновения к нему. Два человеческих начала – животное и духовное – в равной степени требовали удовлетворения своих потребностей, упорно и рьяно. Первое стремилось насладиться всеми жизненными благами, испытать все многообразие предложенных человеку ощущений, желало на своем примере доказать всему миру, что способности женщины, ее сила и умения не ограничены лишь тем, что неразрывно ей принадлежит – ее телу; что она обладает разумом, достойным такого же места в истории, как мужской, что примеры Маргарет Тэтчер, Елизаветы Первой, Мэрил Стрип и Коко Шанель вовсе не исключения. Не сложись история так вопиюще нелепо, и будь у женщин равные права не последние сто лет, неизвестно, сколько великих фамилий внес бы «слабый пол» в мировую летопись. Это начало ужасалось смерти, если к ее приходу так и не познает всех земных радостей, не утвердив попутно свое имя в каком-нибудь почитаемом списке. Второе начало призывало посвятить всю себя служению своей родине, обезличив себя как личность. Оно утверждало недопустимость траты сил и времени на первое, на всякое действие, имеющее мгновенные последствия; ему нужен простор, безбрежный для человеческой жизни, масштаб не только нынешней Армении, но и всех отведенных ей лет. Оно осознавало свою ничтожность, не боялось смерти и не презирало, а просто отвергало ее как событие. Для моей страны, думала Карина, меня и так не существует, я не нужна ей как Карина, стремящаяся к земным благам, а нужна как личность, целиком приобщенная к ее интересам. Я, мы все, как капли дождя для Севана. Мелея, он нуждается в нас. И мы, эти капли, холодные или теплые, острые или крупные, яростные или грибные, падая вдалеке, не наполним его. А упав в его гладь или рядом, мы поспособствуем поднятию его уровня, а значит, сохранению его и продолжению в нем жизни. Но ни в том, ни в другом случае ему не важны типы, характеры, вкусы и предпочтения капель. Он поглотит всех одинаково, и каждая внесет одинаковую, значительную для себя, крохотную для него, лепту. Конечно, есть «Боудикки» вроде Вардана Мамиконяна, защитившего армянский народ от уничтожения и обращения в зороастризм, буквально спасшие всю страну. Другой ее кумир – Вазген Саркисян – олицетворял отвагу и преданность родине именно в том «обезличенном» виде, какой казался Карине наиболее искренним и верным.
Оба этих начала поднимали в ней неистовые волны устремлений к обеим идеям, но те натыкались на бесчисленное количество преград в виде ежедневных «накрой на стол», «брось это», «прекрати болтать глупости», «тебя никто не спрашивал», «ты заставляешь нас, твоих родителей, стыдиться тебя», и им подобным высказываниям, действующим на Карину как удар головой об угол дверцы полки, мгновенно вызывающий необъяснимую слепую ярость.
Вспомнив эти высказывания, она резким движением отодвинулась от стола, вскочила на ноги, и принялась мерить квартиру беспокойными шагами. В прихожей она остановилась у шкафа с зеркалом во весь рост, и принялась внимательно разглядывать себя. Какая я? О чем говорит мой взгляд?
Она смотрела на себя, в антрацитово-черные глаза с чуть приподнятыми внешними уголками, придающими взгляду мерцание холодной насмешливости; здоровые, с графитовым отливом, волосы, образующие мягкие волны на острых, спортивно-широких плечах. Тонкое лицо светло-миндального цвета, правильный овал которого нарушал квадратный, чуть выпуклый подбородок, никогда не оставалось без пристального внимания, восхищенного или завистливого. Худоба и тонкие руки увеличивали средний рост. Карине нравилось ощущать плавное движение ног во время ходьбы, четко очерченную, но без резкой впадины, талию, спокойные подъемы высокой груди в такт с легким дыханием, гибкие, почти танцевальные движения. Она твердо ощущала малейшее движение тела, управляла им легко и изящно. Под гладкой, гибкой шеей выглядывали тонкие пластинки мышц, сходящиеся у округлого выступа гортани. А ресницы? Кто бы поверил, что они настоящие? Их пушистую густоту видно издалека; окаймленные ими, без того большие глаза кажутся еще больше; их пиратская – как прозвали подруги, придав однажды схожесть энергичных взмахов ее ресниц с развевающимся пиратским флагом – чернота, подчеркивающая ее лютую уверенность, и презрительное сияние глаз, как ослепительная луна в черную ночь. Свой нос она сравнивала с носом Давида работы Микеланджело, а ровную, слегка приспущенную у межбровья линию бровей – с бровями того же Давида, но работы Бернини. Ей доставляет необъяснимое удовольствие не просто указывать окружающим на их пороки, но безжалостно их вскрывать, утаптывая жертву в толще стыда, нравится при этом как бы парить над ней. Она не могла объяснить источник этого чувства превосходства, понимала, что для всех является не больше рядовой студентки, цветущего подростка, совершающего в этом возрасте множество глупостей и позволяющего себе массу лишнего. Но откуда-то из пучин ее души, скрытое так глубоко, куда ей еще не удалось добраться, взвывало это непонятное желание вспарывать правду самым жестоким образом, наслаждаться видом покоробленных от злости, недоумения, смущения, стыда, лиц, вызывать в них потрясение. О чем бы ни велись споры, Карина была непоколебима в своей правоте, и ее еще больше озлобляло заведомо несерьезное к ней отношение.
Неожиданный скрип входной двери заставил ее содрогнуться и отскочить от зеркала. Вошла мама, окинула Карину торопливым взглядом, и словно опомнившись, поздоровалась.
– Что ты тут делаешь?
– Так, смотрела на зубы.
– Когда пришла?
– Минут двадцать назад.
– Скорее, вымой зелень и нарежь овощей и картошки, пока я умоюсь. Нужно сделать салат и горячее, к нам едут Балаяны.
Едва сбросив ботинки, мать спешно зашла в ванную. Из закрытой двери донеслось ее приглушенно-напряженное: «быстрее, времени мало!» Жалость к бедной самоотверженной матери, всегда неизменно заставляющая Карину наступить на горло своему возмущению и помогать ей, в этот раз не сработала. Она осталась на месте, рисуя в голове план наименее болезненного отпора. Ей вдруг захотелось пристально оглядеть лицо матери, всмотреться в каждую линию ее округлившегося, бесформенного тела, понять, как выглядит человек, целиком отдавшийся служению родственным интересам, незыблемое первенство которых ей внушалось с самой юности. Как выглядит человек, отвергнувший себя, обязанный угождать и умилостивлять малейшие пожелания своего окружения? Наверное, так, как ее мать. С вечно бегающими глазами, стремительно прыгающими от одного дела на другое мыслями, сумбурными речами и суетными действиями. Каждый час ее расписан, львиную долю ее времени отнимают приемы гостей и походы по ним, а также разного рода услуги близким, считающимися таковыми формально, но совершенно не такие по отношению к ней. Конечно, все они ласковы и любезны, красноречивы и преданы во время встреч, но меняется день, меняются субъекты этих сладострастных речей, мама так же надрывно старается всем угодить, и так по нескончаемому циклу. В чем-то мир мамы схож с представлением Карины об «обезличенной» преданности родине, но лишь в масштабе одной семьи.
Отворившаяся дверь едва успела открыть проем для выпрыгнувшей оттуда матери.
– Ты чего стоишь, как памятник? – набросилась она на дочь. Карина нахмурилась еще больше.
– Какие еще Бадаляны едут к нам?
– Балаяны. Двоюродная сестра твоего отца. Делай, что я говорю, помоги маме.
– Ох, мама, не волнуйся так. Зачем эти судороги? Ты даже не спросила, как прошел мой день.
– Замолчи! – оборвал ее голос из кухни. Очевидно, мать отчаялась призвать дочь к благоразумию. – Не хочешь помогать, хоть не мешай!
Карина последовала за матерью широкими, громкими шагами, схватила несколько луковиц, и принялась озлобленно чистить.
– Мне жалко тебя, мама, – процедила она. – Всю жизнь, за всю мою память, ты ни разу не пошла в кино, в театр, отмахивалась от моих рассказов про композиторов. Зато ты мастер готовки, от твоих блюд все без ума, поэтому и ломятся толпами к нам домой. Но ведь это все обман. – Она выложила луковицы на доску, и стала грубо резать их, ударяя нож об доску с пронзительным стуком. – Эти Бадаляны объявляются только тогда, когда мужу моей тетки кажется, что давно он что-то не пил. Я могу поминутно расписать весь сегодняшний вечер. Всю пьяную болтовню, выдаваемую с видом великих мыслителей. Его жена и дочь будут сидеть с идиотскими улыбками, кивать, когда надо, и иногда вскакивать, предлагая тебе помощь в смене посуды, ожидая твоего отказа: «нет, что вы, милые, отдыхайте, мне совсем не сложно!». Тогда они, с сокрушенными лицами, сядут обратно, глядя исподтишка на главу семейства: «видишь, властелин наш, мы проявили заботу». А ты продолжишь скакать возле них, скрывать боль в спине, ногах, проклинать мысленно этот нескончаемый алкоголь: «когда же ты закончишься, чтобы они свалили!». А в конце ты, изнывающая от болей в суставах, будешь упрашивать их остаться, потому что они просто обязаны попробовать торт, который ты пекла всю ночь.
– И в кого ты пошла такая дикая эгоистка, – скорбно отвечала мать, разрывающаяся между необходимостью провести с дочерью обстоятельную беседу, и скорее готовиться к приходу гостей. Она выбрала второе, поскольку не могла себе позволить выбрать первое, пока не исполнено второе. – Они наши родственники, твои близкие. С таким отношением ты растеряешь всех. А самое ужасное – это то, что в твоей невоспитанности винят нас, родителей.
– Ты боишься совершенно не того, чего нужно, – парировала Карина. Чтобы немного смягчить жесткость к матери, она стала нарезать усерднее. – Расскажу короткий исторический случай, если, конечно, ты найдешь возможным уделить дочери две минуты.
– Говори!
– Однажды два друга, Бетховен и Гёте, прогуливаясь по Теплице, заметили впереди императора Франца со свитой. Бетховен предложил не сворачивать, а идти прямо, поскольку они выдающиеся личности, а те всего лишь одни из многих тысяч баловней судьбы. Гёте ужаснулся его поведению, и когда они поравнялись со свитой, Гёте снял шляпу и отвесил низкий поклон, Бетховен же прошел сквозь них, даже не моргнув.
– Что ты хотела этим сказать, что ты не хуже Бетховена?
Вместо ответа Карина лишь тяжко вздохнула.
– Я не останусь с ними. Я буду в городе, вернусь после их ухода и помогу тебе.
– Что ж, хочешь очередного скандала с отцом – дело твое.
– Мама, прошу, не пугай меня. Скандалы, – она презрительно хмыкнула, схватила партию огурцов, и так же необузданно налегла на нее. – Та формула жизни, в которую вы верите, и завела нас в это бедственное положение.
– Ты, по-твоему, бедствуешь?
– Я говорю о всей стране.
Приготовление салата отняло у Карины не больше десяти минут, так быстры и вышколены были ее действия. Пока мать возилась с мясом, она умылась, закончила сервировку стола, и побежала в коридор.
– Я пошла!
– Куда? – с раздражением спросила мать, не поднимая головы.
– Куда-нибудь.
Ей не терпелось скорее сбежать, не встречаться ни с Балаянами, ни, тем более, отцом, с которым отношения за последний год рушились безвозвратно. Большими, размашистыми шагами, словно пытаясь ускорить вращение планеты, Карина дошла до остановки, запрыгнула в первую же маршрутку, и спустя десять минут тряски в удушливом салоне вышла на Проспекте Маштоца около вечного магазина «Гранд кенди». Желание шагать, идти неизвестно куда и искать непонятно чего выросло в ней в потребность. Она продолжила спускаться по Проспекту таким же энергичным шагом, и с небрежно покачивающимися руками. На улице Исаакяна ей тут же разрезало вид что-то новое. Поискав глазами несколько секунд, она увидела в нескольких шагах от кинотеатра «Наири» новую вывеску, красующуюся на фасаде дома. «Ночной клуб «Каллиопа», – прочла Карина, а на тротуаре перед домом деревянная доска с крупными белыми буквами: «Центр ночного притяжения».
Ноги повели ее прежде, чем решение сформировалось в голове. Карина толкнула дверь, и оказалась в полутемном тесном коридоре, с отделанными бархатом стенами и зеркалами. Справа зияла широкая гардеробная, после нее коридор обрывался, и открывалось просторное круглое помещение в два этажа. Наверх вела изящная винтовая лестница у края, тонкая балюстрада второго этажа из прямых серебристых перил вся переливалась в приглушенном освещении. Широкий балкон распластался на двух толстых колоннах, служащих также границей танцпола и барной зоны. Карина огляделась; в глубине зала у бара сидели боком к стойке, за вялой беседой, двое рослых человек. Она направилась к ним.
– Вы кто? – спросил один, подозрительно нахмурившись.
– Мне нужна работа. Я хорошо пою.
Скрывая высокомерное пренебрежение, мужчины обменялись короткими взглядами, придя мысленно к некому негласному согласию.
– Девочка, нам не нужны певицы, у нас свой ди-джей. – Один, выглядевший главным, несколько секунд с интересом разглядывал молодую особу, затем, придя к какому-то выводу, перевел взгляд на второго, и снисходительно обратился к Карине, глядя при этом на друга. – И потом, ты молодая красивая девушка. У тебя наверняка отец и, может, братья. Не нужно тебе проводить здесь ночи. Выйди, пожалуйста, ты находишься в частном закрытом месте.
– Спасибо, конечно, за заботу, но думай лучше о себе. Если тебе жалко пятьдесят тысяч драм, то спешу успокоить – я и не думала просить зарплату. Вы ведь только открылись? Большинство клубов города играет записанную музыку. Так можем разнообразить формат живым исполнением. На западе это в моде, и вы очень скоро оправдаете надпись на вашей вывеске.
Ей показалось на миг, что мужчины засомневались. Чтобы подкрепить свои доводы, она добавила:
– За мой голос не волнуйтесь, я оттачиваю его в Консерватории.
Второй выжидательно косился на первого. Но это была лишь попытка скрыть замешательство, попытка вписать нарушившую их стойкое убеждение о порядочных женщинах как кротких созданиях, не осмелившихся бы так бесстрашно войти сюда и почти ультимативно требовать работы, в их жизненную философию. А поскольку их философия заключается в том, что порядочная девушка ни за что не заговорит первая с незнакомцем, не позволит себе такой дерзости, как остаться без присмотра отца, брата, и тем более не задумается устроиться певицей в ночной клуб, то довольно скоро ошеломление качнуло в сторону вполне определенных мыслей.
– Сколько тебе лет? – вкрадчиво спросил главный. Интонация не оставила сомнений – ее приписали в разряд гуляющих девочек, в отношении которых нет никаких этических норм. Чуя грядущее унижение, Карина приняла свой обычный облик:
– Что, я для вас слишком смелая? Конечно, проще отнести к испорченным всех, кто хоть чем-то не соответствует вашему неолитическому мышлению, чем признать свою ошибку.
– Лучше оставь свой телефон, мы свяжемся с тобой вечером.
В кармане Карины оставалась пятисотдрамовая банкнота, припасенная для проезда. Она вынула ее и бросила к ногам главного со словами:
– Сходи в зоопарк к бабуинам, полюбуйся на своих сородичей. А ты, его прыщавый пудель, продолжай так хорошо преклоняться перед своим господином.
Она не слышала ничего из их угроз, и когда, сдерживая гнев, свернула на Проспект в сторону Площади Республики, то поняла, что домой придется идти пешком. Тем лучше, немного успокоюсь. Обида и бессильная злоба на свою необузданность, на повсеместное скудоумие и глубочайшую замкнутость плескались в ней кипящими волнами безысходной горести. Как спасти свою судьбу, если малейшее отступление от «нормы» хоронит тебя самыми унизительными эпитафиями? Что же мне делать?
Ласковое апрельское солнце щедро разливалось по сухим, удушливым улицам, разбрасывало серебристые блики на металлических крышах. Достаточно одного взгляда на их потускневший от старости и ржавчины вид, чтобы понять устрашающую глубину охватившей страну нищеты. Нет, с голода не умирают, но лишь благодаря диаспоре, чья спасительная помощь затрагивает почти всех, от семьи и до строительства объектов государственной важности. Да, с недавних пор забурлило строительство, зажатая блокадой и маячащей возможностью войны, Армения напоминает Карине тощего мальчишку, впервые ступившего в спортзал, и только начавшего разминку. Он мечтает обрасти мускулами, твердо стать на ноги, но его тренер, тщеславный самодур, намеренно дает мальчишке неверные задания, чтобы взять с него как можно больше занятий. Моя бедная старушка, в тебе больше нет сил противостоять этой заразной саранче, теперь она проникла в твою кожу. Неужели арцахский подвиг был последней славной страницей твоей истории? Ведь тебя разъедают собственные граждане. И если верхушка делает это осознанно, поскольку является не более, чем роем тщедушных хапуг, понимающих и преследующих лишь голубые мечты о больших машинах и фланировании в сшитых на заказ костюмах, то остальное население неосознанно изувечило весь смысл, всю прелесть и содержание армянской традиции, бережное обращение с которой сулит одно счастье, а головотяпское порождает все окружающее Карину бедствие. Мы превратились в орден иезуитов собственной культуры, как эта растоптавшая истинный смысл христианства секта, у которой общего с Христом разве что название. Как можно не понимать, что нынешние нравы душат всякую инициативность в молодом человеке? Энергию и запал, заложенные самой природой для развития? Ведь каждое поколение вносит что-то новое, иногда улучшая жизнь, иногда усложняя; но тем не менее, движение непрерывно, оно предусмотрено Божьим замыслом. Результатом же этих извращенных нравов стали несчастные подростки, пугливо косящиеся на взрослых, трепещущие над каждым своим словом, неуверенные ни в чем, кроме того, что обязаны быть послушными. Углубляясь в размышления, Карина пришла к выводу, что изувечивает молодежь не воспитание как таковое – ведь вряд ли взрослые желают ей зла – а ее форма. Она много раз испытала на себе эту воображаемую нагайку в виде «молчи, когда не спрашивают», «оставь свое мнение при себе», «я запрещаю тебе» и прочих высказываний, развивающих у человека мысли о собственной неполноценности. Затем он незаметно для себя заимствует общепринятые мнения и порядки, уничтожая в себе всякую инициативность, тешась тем, что это поможет исправить его мнимое душевное уродство, вложенное в него беспечными действиями искренне любящих взрослых. В итоге получаются полчища одинаковых, однобоких и узколобых парней и девушек, не способных ничем оживить общество.