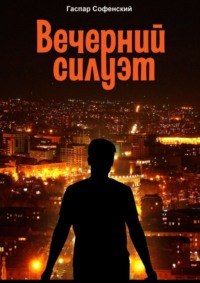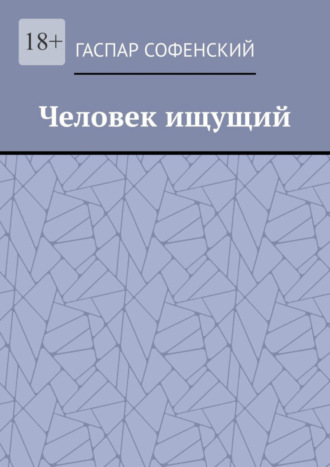
Полная версия
Человек ищущий
– Ты наглая, заносчивая ханжа.
– Вот так и ведут себя отпущенные рабы, – не глядя на Валери, сказал Джозеф. – Спасибо, мистер Балаян, за то, что ни разу меня не обманул, не задержал жалованье, за то, что два года терпел меня, бестолочь, а арендодатель не выбросил на улицу за неоплаченные счета.
Валери несколько секунд молчала, собирая весь яд ответа, чтобы выплюнуть в презренного нарцисса:
– Если у меня в голове вскачет опухоль и я умру, то попрошу написать на надгробии твои цитаты, чтобы люди знали, чьих это рук дело. Лучше было мне жить в палатке у реки Майами, чем узнать тебя.
– Я даже не стану тратить голос на недостойных, – изрек Балаян, когда стих треск захлопнутой двери. – Никчемные рабы, вас берет только нагайка.
Он поправил очки, провел большим пальцем по идеально ровной линии коротких волос, жестких, как стальная щетина, и рассеянно обвел взглядом аккуратно сложенные бумаги на столе. Какие бы мерзости ни исторгала эта вольноотпущенница, беспрекословно выполнять мои требования я все-таки ее научил. Теперь нужно искать замену, не сидеть же самому за унизительной работой улыбаться клиентам и удовлетворять их прихоти?
Несколько тягучих минут изучения бумаг повергли Джозефа в уныние, и он поспешил уехать в ресторан «Джаз южного пляжа», находящийся меньше чем в миле отсюда, но лучше проехать ее за рулем невзрачного «Мерседес А-класса», купленного отцом словно в насмешку над сыновьими желаниями, но зато избавиться от скверной необходимости ходить по одной улице с безмозглыми туристами, полунищими работягами из Маленькой Гаваны, и тщедушными клерками – обслугой отелей. Так, понурый, Балаян воткнул машину неподалеку от клуба, старательно делая вид, что это убогое, обрубленное подобие истинных «Мерседесов» не его, и зашагал, бросая на незадачливых прохожих свирепые взгляды.
***
Мини-оркестр, состоящий из чернокожего вокалиста-старика самой благовидной внешности, не менее любезного на вид моложавого трубача, тучного пианиста, опасно покачивающегося на хлипкой банкетке, и весьма сурового азиата-ударника, который, видимо, выбрал профессию только потому, что она позволяет безнаказанно ударять по вещам, приступил к игре. Оживленная болтовня зала смешалась с ароматами сочных бифштексов, жареных гарниров, и звоном бокалов. Этот клуб, излюбленное место Балаяна-старшего, привлекал Джозефа вовсе не джазом, в котором он, в отличие от отца, ничего не смыслил, но возможностью окунуться в благоденствующую атмосферу состоятельности, вдохнуть манящий запах роскоши. Когда удается избежать встречи с отцом, он обыкновенно занимает место в центре зала у самой сцены, закидывает голень левой ноги на колено правой, выставляя на обозрение подошву туфли, и неспеша потягивает джин, делая время от времени знаки одобрения музыкантам. Ему нравится ощущать, будто оркестр играет только для него, нравится небрежным поднятием указательного пальца подзывать официанта и бросать «повтори мне «Тэнкерэй».
В этот раз центральный столик был занят, и он сел с края от сцены во втором ряду. Чуть глубже в зале пустовал стол старшего Балаяна с табличкой «Резерв». Значит, скоро ждать отца.
– Графин «Тэнкерэя», брокколи под сыром и запеченного окуня, – произнес Балаян нарочито тихо. Помимо всего, он взял за удовольствие говорить с официантами так, чтобы тем пришлось напряженно вслушиваться в каждый вылетающий из его уст звук, и когда, не расслышав, они просят повторить – делать это с подчеркнутым негодованием.
– Говорю брокколи под сыром! И кого у вас берут на работу? – выплеснул он раздражение. Официант молча ретировался, спрятав глубоко в себе не слишком высокое мнение о нем. Тем временем к оркестру присоединились гобоист и контрабасист, бурно встреченные слушателями. Заиграл мягкозвучный, быстрый диксиленд. Обуреваемый восторгом, Балаян покачивал закинутой на колено ступней, опрокидывал стопку за стопкой, с каждой порцией все больше растворяясь в хмельном удовольствии. Поглядывая исподтишка на гостей, он перенимал их выражения, манеру слушать и отмечать понравившиеся соло. Незадолго до опустошения графина показался отец. Проследовав к своему столу в почетном сопровождении хостеса, он внимательно разглядывал оркестр. Вероятно, довольный составом, сел за стол и с радушной улыбкой перекинулся несколькими фразами к мгновенно подошедшему официанту. Тот побежал исполнять волю щедрого гостя. Джозеф обратился к отцу лицом, и пока тот увлеченно барабанил пальцами по столу в такт музыке, решал, подойти самому, или дождаться, пока он его заметит. В последний год, получив назначение, отец стал сдавать буквально на глазах; некогда крупный, с густой гривой волос, блистающих стальной сединой, обретавший с годами все большую статность, начал быстро терять вес, по лицу поползли морщины, и только шевелюра спасала наружность от обрюзглого вида. Тем не менее, растеряв здоровый блеск, его глаза сохранили тот почерк мудрости и монументализма, какими он всегда славился, чем завоевывал всеобщее уважение. Как размерен, властительно-внушителен его негромкий, горловой, и одновременно подсушенный, баритон, так визгливо, резко и задиристо говорил Джозеф, всячески пытаясь уйти от любых схожестей с отцом, которого считал единственной причиной его неудач. Несомненно, его безжалостный критик, возносящий мелкие промахи сына до таких размеров, будто они губительны. Под нескончаемым градом болезненных упреков сыну неловко в его компании, назидания давно производят обратное действие. В случае, если ребенок в силу своего склада не способен стать тем, кем его желают видеть родители, а те не оставляют воспитательных потуг, то они превращаются в тягостные нотации, вызывающие только глухой протест и желание избежать их любой ценой. Так Джозеф постепенно превратился в полную противоположность отца, слушающий его наставления только для того, чтобы делать наоборот. А строгая домашняя дисциплина, нежелание отца разбаловать сына деньгами укоренились в нем глубокой обидой, и окончательно изолировала их друг от друга.
Тем временем нечто вроде приличия заговорило в Джозефе – негоже пялиться на отца, и ловить его взгляд, лучше подойти. Он вновь подозвал официанта и уронил почти под нос:
– Перенеси все на тот стол. Здравствуй, папа!
Погруженный в музыку, Вильгельм Балаян не сразу услышал обращение.
– Здравствуй, сын! Я собирался позвонить тебе сразу после этой чудесной композиции. Присаживайся, послушаем джаз. Знаешь, как называется этот стиль?
– Как?
– Диксиленд. Он появился в Луизиане где-то между Батон-Ружем и Новым Орлеаном.
– Тебе он нравится особенно?
– Не больше других стилей. Джаз тем и прекрасен, что не имеет жестких канонов. Импровизируй, твори, единственное требование – гармоничность, а еще немало смелости. Не бояться искать новые звучания, сочетания. Впрочем, все как в жизни.
Хоть голова Джозефа и была завернута в пьяную пелену, он почувствовал приближение нравоучений, и поспешил сменить тему:
– Что ты заказал выпить?
– Как обычно, десятилетний «Ардбег». Мне, работнику профессии, требующей жесткость хард-рока и точность снайпера, совершенно неясно, как американцы – народ, отстоявший свободу от величайшей в истории империи – не создали его первыми. Впрочем, это шутка. Такой вкус не мог появиться где-либо, кроме Айлы.
– Говоришь как об искусстве, – едко обронил сын.
– Не меньшем, чем джаз, литература или живопись, – сдержанно ответил отец. Джозеф продолжал с самонадеянной дерзостью:
– Тебе следовало открыть винокурню. Мошенники не испортили бы характер.
– Ты ошибаешься, если полагаешь, что существуют профессии без нечестивцев. К сожалению, мало кто относится к своему делу с должным почетом. К своей работе нужно относиться так, будто она самая важная в мире. А богатство всего лишь приятное дополнение к удовольствию делать свою работу на славу. Я так хочу, чтобы ты когда-нибудь понял это.
– Легко рассуждать о необязательности богатства, когда ты богат. Заикнись я о чем-то подобном, ты бы оплевал меня на публику.
Радушие в глазах отца мгновенно исчезло. Всем видом он старался не дать волю томившемуся в нем разочарованию, крепнувшему с взрослением, страшно признать, никчемного сына.
– А что пьешь ты?
– Тэнкерэй. Надеюсь, хоть в этом я не ошибся.
– Выбирай, что угодно. Я же привык отдыхать в окружении джаза и торфа.
Опьяневшие глаза отца, обрамленные вялой попыткой к собранности, возбуждали в сыне гневную бурю.
– Мне показалось, что ты кого-то ждешь.
– Я собирался позвонить Геллеру, но твоя компания – лучшая. Давай посидим вдвоем, – произнес отец сдавленно, и, чтобы сын не прочел горя в его глазах, стал разглядывать посетителей. Шумная болтовня, то и дело возникающая в зале, дополняла музыкальную ткань каким-то уютным орнаментом, грозящим иногда затмить ее, но вовремя спадающим в приемлемые пределы. Неподалеку от них сидел в одиночестве молодой мужчина в синем льняном пиджаке, с вьющейся копной угольно-черных волос, рослый, плечистый, рассеянно крутил в руке бокал. Вильгельма привлекла не столько его противоречащая обстановке отстраненность, сколько неспешная манера подносить бокал к носу, изредка пригубляя крошечными порциями. Малый явно наслаждается напитком.
– Посмотри. – Он указал на одинокого гостя. – Я его не знаю, но уже уважаю. В век, когда молодежь думает, будто Кола улучшает вкус виски, он изучает напиток. Давай-ка позовем его.
– Отец, остынь, ты выпил! – рыкнул Джозеф, содрогаясь от ревности.
Только Вильгельм поднял голову, как мигом подбежал официант.
– Да, сэр.
– Донни, видишь того парня в синем пиджаке? Сделай одолжение, угости его от нас бутылкой «Ардбега». Ох, нет, у него, вижу, «Мэйкерс». Тогда однобочковым «Four Roses». – И, посмотрев на сына, добавил с нотой извинения: – Ну, что ты так смотришь? Прости мои маленькие старческие слабости.
– Разбрасывать деньги на каждого проходимца – это, разумеется, всего лишь маленькая слабость. А помочь сыну докупить одну жалкую «Астру» для увеличения клиентского потока – это непозволительное баловство.
– Прошу, Джои, мы столько говорили об этом. Ты можешь обвинять меня в чем угодно, но не можешь не замечать, что достучаться до тебя я пытался всеми способами, какие только есть. Я говорил с тобой и строго, и мягко, и дружелюбно, и угрожающе, как только не старался сделать так, чтобы ты стал, наконец, смотреть чуть дальше своего носа. В университет ты сам поступить не смог, никаких знаний не получил, приглашений на работу тоже. Решил, что образование – бесполезная суета, взялся устроить свое дело. Я всецело тебя в этом поддержал И что же? На пятом или шестом предприятии ты обвиняешь меня в отказе купить жалкую «Астру». Тебе двадцать восемь лет, а виновники все еще везде, кроме внутри себя. Сожалею, что мне не удалось втолковать тебе столь очевидную истину.
– Тебе не удалось узнать родного сына чуть ближе, чтобы понять, что я по строению не внушаемый. Со мной можно договориться, но не заставить, чем ты упрямо занимаешься двадцать лет. Диктаторство душит человека. Мне тоже жаль, что столь очевидную истину не удалось втолковать тебе.
Лицо Вильгельма исказил бессильный гнев. Раздув ноздри, он шумно выдохнул, и наверняка разразился бы неистовой тирадой, если бы не подошедший к ним мужчина в синем пиджаке. С плывущими глазами, ссутулившийся, что убавляло внушительный рост, но старательно держащий почтительный вид, и бутылкой «Четырех роз» в руке, он вежливо улыбнулся.
– Прошу прощения, джентльмены. Наш Донни не ошибся, и вы действительно одаряете меня столь высокой честью? – спросил он, учтиво протягивая руку. Вильгельм и Джозеф поочередно пожали ее; отец с великодушной улыбкой, сын – с натуженной. – Огромное спасибо, господа. Но вы ставите меня в неудобное положение – чем я ее заслужил, и как мне теперь с вами поквитаться?
Вильгельм пододвинул стул рядом с собой, приглашая гостя сесть. Мужчина осторожно сел на край, все еще с неверием поглядывая на обоих.
– Теван Карамян. Я не испанец и не албанец, я…
– Карамян, – повторил Вильгельм, вновь протянул руку, засмеялся, и крепко сжал ладонью второй руки их рукопожатие. – Позволь представиться – Вильгельм Балаян, и мой сын Джозеф.
– Какое везение! – вскрикнул Теван. – Знаете, вы первые земляки, кто встретился мне в Майами за пять лет жизни. И в связи со столь прекрасным событием, позвольте угостить вас бурбоном, который вы мне подарили, – предложил он со смехом.
– О, нет! – одернул Вильгельм. – Он твой. Донни! Приятель, как думаешь, мне по силам переход от крутого шотландца к «Мэйкерсу 46»?
– Сейчас и выясним, сэр! – пропел верткий официант и побежал исполнять заказ.
– Действительно виски – напиток настроения, – сказал Вильгельм, откинувшись на спинку стула в предвкушении душевной беседы. – Если «Ардбег» – батальный жанр живописи, то «Мейкерс» – натюрморт, и в зависимости от настроения тебе хочется любоваться или «Чесменским боем» Айвазовского, или натюрмортом с цветами и фруктами.
– Вы выглядите человеком, чувствующим себя здесь как дома, – заметил Теван.
– Разве может быть отдых лучше, чем под джаз с виски? – ответил Вильгельм и подмигнул новому знакомому. – А кем выглядишь здесь ты? Забрел случайно, или я упустил из виду постоянного клиента?
– Видно, здесь вы всех знаете в лицо! – сказал со смехом Теван. – Если позволите, сэр, я первым задал вопрос.
Хоть вопрос и был возвращен в шутливом тоне, однако Джозефа он возмутил. Его захлестывала необъяснимая ревность, досаждал синий льняной пиджак качественного покроя, обходительные манеры незнакомца, мгновенно возникшее взаимопонимание с отцом, от которого он далек безвозвратно. Но сильнее всего коробило от того, что этот наглец намеренно не замечает его. Даже руку ему пожал только из необходимой учтивости. Мерзкий тип, сейчас он охмурит выпившего отца, и тот возьмется тыкать ему в пример первого попавшегося прохвоста, приглянувшегося только за то, что он слушает джаз.
– В эпоху устрашающего отупения молодежи, когда из-за фатальной неумелости сменяющего нас, стариков, поколения, возникает реальная угроза вымирания человечества, ты слушаешь джаз, исследуешь вкус и аромат бурбона. Вот и весь мой ответ, твоя очередь.
– Я хожу сюда недавно. Мистер Балаян, должен вас разочаровать. Да, мне нравится джаз. И считаю, что в свои двадцать семь лет немного в нем разбираюсь. Но причина, по которой я провожу здесь время, не в этом. Просто мне легче ворошить мысленный переполох в приятной атмосфере. А еще я боюсь оставаться один. Простите мою откровенность.
– Мы с Джои любим откровенность в отношениях, – изрек отец с еле скрытой горечью. – Если ты не торопишься, сынок, то тебя ждет занимательная история.
Джозефа обдало гневным кипятком, захотелось бешено прикрикнуть на отца: «Перестань называть меня этим идиотским именем!»
– Мне скоро идти, но я послушаю занимательную историю, – выдал он почти злобно.
Несмотря на хмельную рассеянность, Теван мгновенно уловил язвительный укол. Впервые он посмотрел прямо в глаза Джозефу, соединившие в себе одновременно голубиную выпуклость и свинячью стянутость щелок. Несомненно, под мнимо эстетической, благонравной оболочкой скрывается тщедушный повеса, не сознающий свою ничтожность, страдающий гаденьким тщеславием изнеженного ребенка, никогда не прикладывавшего усилий. Его жидкие, бесцветные глаза безостановочно бегали с отца на него, раздражающе-ровный абрис лба, короткие, бледные загогулины бровей, и суетные движения – все в нем словно было выточено для отторжения. Тевану стоило немалых усилий обуздать чувство, возникающее при встрече с подобными людьми, схожее с повадкой акулы, когда она унюхала жертву.
– Позвольте прежде всего выразить вам признательность. Вы, очевидно, человек, достойный величайшего уважения. У вас, уверен, надежная, крепкая семья. Это видно по вашему сыну. Он смотрит на меня так, будто готов убить, если я вас вдруг осмелюсь потревожить. И здорово, что у вас такой сын. Но мне неловко перед вами, мистер Балаян. Я не хочу причинять неудобство вашему сыну докучным рассказом.
Балаяны поочередно улыбнулись – отец признательно, сын снисходительно, услажденный меткой лестью Тевана. Тем временем Донни принес «Мэйкерс».
– Будь уверен, у моего сына ничего подобного и в мыслях нет. Так что, как не джаз, ведет тебя сюда?
– Возможность побеседовать с самим собой. В моей голове есть кладовая, доверху забитая мыслями, заняться которыми мне никак не удается.
– Что же тебя тревожит? – Соединив ладони и скрестив пальцы, Вильгельм подпер ими голову, и направил на собеседника испытующий взор.
– Мы живем в выдуманном мире. Вся пелена мифов, все слои легенд, которыми окутало себя человечество, рассыпались в пыль, когда умер мой отец. Его смерть привела меня к выводу, сколь убоги и просты остались мы, сапиенсы. Триста тысяч лет мы были самым уязвимым и беззащитным представителем царства животных. Наше преимущество – мышление, наше поведение не закодировано в генах, поэтому мы и ведем себя разнообразнее животных, хотя и вполне предсказуемо, что позволило нам покорить планету. С точки зрения же наших поступков их источником осталось выживание, а инструментом – алчность. У древнего человека вероятность умереть была выше, чем у всех других животных, потому мы запасались, как могли. И смерть моего отца самым прямым образом связана с этими двумя штуками.
– Как он умер?
– Потерял сознание по пути на работу. Мы тогда жили в Орландо, он был старшим мастером на заводе по переработке отходов. Шел он пешком, а путь пролегал через шоссе. И пока его заметили – дело было в шесть утра – он умер. Аневризма аорты. Врачи называли массу версий – нервы, курение, недостаток сна, ужасное питание. Он входил в группу инженеров по проектированию новых электроприборов в «Армэлектросвете». В 89-м мы ненадолго перебрались в Москву, где он устроился в Московский электроламповый завод, но и он вскоре рухнул. Мы уехали в Орландо, где отец сменил несколько мест, пока поступил в этот завод. Я тоже работал в небольшом цеху сборки электроприборов одной местной фирмы, в 2002-м она закрылась. Один из мучающих меня вопросов, над которым я, признаться, боюсь думать, заключается в том, сколько лишений пережил отец. Руководство завода повышало план, смены увеличивались, он работал как черт, гоняясь за повышением, показывая, будто не знает усталости. Через два года после его смерти мы с матерью перебрались в Майами, где я решился на судьбоносный шаг – взял ссуду. Так начался мой самостоятельный путь. И если позволите немного похвалиться, я им доволен. За пять лет моя пещерка, где я был и владельцем, и продавцом, и бухгалтером, и уборщиком, сумела вернуть долг, переехать на Линкольн-Роуд, и расширить спектр услуг – сегодня мы оснащаем здания свето-звуковым оборудованием. Театр, кинотеатр, музей, ночной клуб, школа танцев— словом, любое искусство. Правда, теперь я жалею, что лишил себя свободного времени, а тем временем моя «кладовая прокрастинации» лишь увеличивается. Остается захаживать сюда, сидеть с умным видом джазового знатока, и думать.
Джозеф, сидевший с опущенными глазами и насупленными бровями, издал томный вздох. Еще один псевдо-философ, считающий себя мыслящим. Ты никто, увязший в своих проводочках горемыка. Вот, к чему приводят безденежье и нужда. Пытаясь ее преодолеть, незаметно попадаешь в жернов беспощадной мельницы судьбы, перемалывающей тебя и все твои детские мечты, если они были, и смешивающей с миллиардами ничем не различимых от тебя крупинок. Нет, как бы ни противились либералы, коммунисты, демократы, а общественное расслоение существовало с самой зари человечества, и не исчезнет никогда, ни под каким давлением современных, ультрамодных и иных теорий. Бедным суждено молоться в муку, из которой богатые пекут себе необходимые для жизни булочки. Принадлежать к высшему классу – его врожденная черта. Ведь жили древние греки и римляне, не задаваясь вопросом, почему рабство и нобилитет – естественное разделение. Такое же несомненное, как мнение Платона и Гесиода, Катона, Папиниана и великого множества древних мыслителей, юристов и деятелей о подчиненном положении женщин по отношению к мужчинам, об их полном бесправии, существующих вне общества, и только ради служения мужу.
– Я понимаю тебя, – сочувственно произнес Вильгельм. – Сколько зданий ты оснастил? У тебя есть портфолио?
– Последний – кинотеатр «Регал» на Альтон-роуд.
– Весьма достойно для столь малого срока.
– Кажущегося мне минутой, – со вздохом дополнил Теван. – Я боюсь этой дикой скорости, она так же внезапно подкинет меня к концу. Я умру, осознав, что прожил так, как установлено природой для всех таких же животных. Добыча пропитания, поиск крыши над головой, распространение своих генов. Даже вершина пирамиды Маслоу – по сути, как и у наших предков – потребность в наслаждении, в какой бы форме оно ни выражалось. Всю жизнь мы боремся за то, чтобы ничего не делать, так и умираем. И ходить сюда я стал за маленькой остановкой.
Вильгельм несколько секунд обдумывал ответ, затем улыбнулся с какой-то глубокой, пронзившей Тевана в самую душу, проникновенностью, и изрек торжественно:
– Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли он будет, или глупый? И это – суета.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.