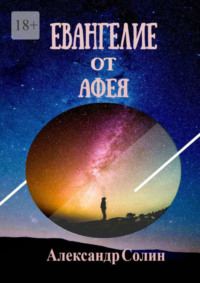Полная версия
Тантатива №2
В музыкальной школе у меня есть друг – Петька Трофимов. Ему, как и мне десять лет. Однажды на уроке наша учительница велела нам не шуметь, а сама вышла из класса. Несколько минут мы сидели тихо, а потом Петька склонился к баяну и заиграл вполсилы что-то тягучее и чувствительное. Кто видел, тот знает самозабвенную привычку доморощенных баянистов сливаться в такие моменты с баяном щекой. Я глянул на него, и меня обожгло внезапное видение. Совсем как со щенком! Я увидел, как Петька играет, припав щекой к баяну, и вдруг с левой стороны на плоскую перламутровую поверхность влетает круглое зеркальце и разлетается на куски, один из которых попадает Петьке в глаз. Я в ужасе кричу ему: «Стой!» Он выпрямляется и смотрит на меня с недоумением. «Петька, – возбужденно говорю я ему, – никогда так не играй, иначе будет плохо!» «Чего плохо? Ты чего?» – смотрит он на меня. «Будет плохо, я чувствую!» – все еще под влиянием мысленного ожога отвечаю я. «Ты чё, Мишка, шутишь?» – подозрительно смотрит на меня Петька, решив, наверное, что я его разыгрываю. Вернулась учительница, урок продолжился. Больше мы к этому разговору не возвращались. Случилось это в начале мая, а через месяц мы разошлись на каникулы. Когда в сентябре мы встретились в музыкальной школе, у Петьки вместо левого глаза была безжизненная стекляшка. Что, где, как, почему – набросились мы на него, и он поведал о взрослой компании, где ему велели сыграть что-нибудь красивое, и о зеркальце, прилетевшем ему на баян от подвыпившей дуры…
Таким было мое второе видение. Мне бы насторожиться, соединить его с первым и признать за ним статус неслучайности, из чего следовал бы вывод о наличие у меня пугающего дара предвидения – но нет: для этого мне пока не хватало ума. В случае же с Петькой обидным было то, что мое предупреждение оказалось холостым. Иначе и быть не могло: расскажи я Петьке о том, что видел, он бы просто поднял меня на смех! И все же для меня он так и остался живым укором моей детской нерасторопности.
Не хотел бы перегружать мое повествование биографическими подробностями, какими бы драматичными они ни были. С одной стороны, они никого, кроме меня не касаются, а с другой – отвлекают от существа авантюры, в которую я ввязался, а именно: взялся со второго раза одолеть путь, с которого сбился в первый раз. Почему авантюра? Да потому что со второго раза сыграть без ошибок не получится даже этюд до-мажор К. Черни! Так что упоминание здесь того или иного события делается с единственной целью – попробовать его судьбоносность на зуб. Существенным при этом является генезис моего отношения к кому-то или чему-то и встречное отношения ко мне.
4
После случая с Петькой внутри меня поселилось некое беспокойство. Подспудное и поначалу необременительное, оно напоминало состояние, в котором находишься, когда не выучил урок и печенками чувствуешь, что тебя вызовут. Где оно было раньше – бог его ведает: ведь те, за которых я теперь переживал, были вокруг меня и прежде. Так или иначе, отныне я с опаской поглядывал вокруг в ожидании очередного подвоха. Прибавьте сюда уже ставшее привычным уже виденное (опять двадцать пять за рыбу деньги! – как любил приговаривать мой дед), и вы, возможно, поймете мое новое состояние.
По чьей-то зловредной, насмешливой прихоти окружающие меня люди (за исключением родных и близких, разумеется), квартировали в моей памяти преимущественно за счет их неприятностей. Если же учесть, что жизнь полна неприятностей, то помноженные на число моих друзей и знакомых, они грозили стать для меня, альтруиста поневоле, непосильным грузом. Слава Богу, что он подчинил жизненные напасти закону водоема, согласно которому крупной рыбы в нем гораздо меньше, чем мелкой. Так и здесь: на одно крупное, заслуживающее внимания злоключение приходилась сотня мелких, назидательных, в которых «опыт, сын ошибок трудных» нашел бы больше пользы, чем вреда. Предупреждения о них приходили ко мне без драматических ожогов – просто вспыхивала картина их последствий и медленно гасла, словно давая возможность оценить ущерб. Я заметил: если картина была яркой, значит, я сам буду свидетелем происшествия, если размытая – узнаю о нем со стороны. В конце концов, до меня дошло, что беспокоиться по пустякам о других (исключая опять же родных и двух-трех закадычных друзей) – себе дороже. К такому выводу я пришел после того, как посоветовал соседскому пацану добираться на рынок, куда он был послан матерью за молоком не на велосипеде, а пешком. Он не внял, оседлал велосипед, на обратном пути с бидоном на руле упал, разлил молоко и сломал руку. Когда же я встретил его, загипсованного, он со злостью выпалил: «У тебя, Мишка, дурной глаз! Ты меня сглазил!», после чего перестал со мной дружить, а я – размениваться на мелочи. Перемена пошла на пользу: беспокойство поутихло и стало почти незаметным, как шум в ушах моего деда, к которому, по его словам, он привык.
Для полноты диспозиции сообщу об одном важном наблюдении, а именно: когда мы играли в футбол, я при всем желании не мог предсказать, кто победит. Более того, все мои прогнозы по поводу исхода событий состязательной природы, будь они дворового или мирового значения, были исключительно гадательного свойства. То же самое касалось азартных игр, где Бог играл с людьми в кости. И это было хорошо, потому что давало мне возможность предаваться наравне с другими шумному, эмоциональному чувствоизъявлению. Также непредсказуемыми для меня оказались события городского масштаба, не говоря уже о тех, что происходили за тридевять земель. Получалось, что видения мои касались только меня самого и моего окружения. Это означало, что вмешиваться я мог только в жизнь ограниченного круга лиц, который я, не желая, чтобы на меня показывали пальцем или крутили им у виска, сузил до клуба избранных. Так, например, случилось с соседом, добрым весельчаком дядей Васей, имевшим старенький мотоцикл, на котором он, как мне привиделось, должен был благополучно скатиться в кювет. Я как можно деликатнее его предупредил, что у мотоциклов иногда на полном ходу лопается шина переднего колеса и что не следует увлекаться скоростью, на что дядя Вася, оглядев меня – белобрысого, вихрастого, больше похожего на яйцо, чем на курицу паренька, пыхнул папиросой и философски заметил: бог не выдаст – свинья не съест. Когда же мое пророчество сбылось, дядя Вася, сияя синяками и потирая ушибленные места, при виде меня не сдержался:
«Ну ты, Мишка, прямо накаркал!»
Туда же случай с моим дядей, заядлым рыбаком, которого я однажды увидел во сне выплывающим из реки в полном рыбацком обмундировании.
Утром мать сказала:
«Сегодня дядя Леша едет на рыбалку, обещал рыбу привезти»
«Не привезет» – хладнокровно возразил я.
«Откуда ты знаешь?» – удивленно посмотрела на меня мать.
«В такую погоду рыба не ловится» – уклонился я, уже зная, что на середине реки у резиновой лодки дяди неожиданно станет травить воздух, и он отчаянно погребет к берегу. Метрах в десяти от берега лодка вместе со снастями и уловом пойдет ко дну, но дядя Леша, слава богу, выберется. Так все и случилось. Дядя потом долго потешал публику этим незадачливым, приключением, заключая свой рассказ словами: «Всё хорошо, что хорошо кончается».
Не всё, к сожалению, кончалось хорошо, и тогда моя удручающая осведомленность доставляла мне недетские страдания, ибо нет ничего хуже бессильной сопричастности. Так случилось с моим одноклассником Стасом Моховым. В одиннадцать лет он хорошо и красиво плавал, что делало его излишне самоуверенным. Я с моим слишком вольным стилем ему в подметки не годился. В конце мая 1971 года я вместе с другими мальчишками нашего 4«А» выбежал из школы, чтобы распрощаться до осени. Сбившись в возбужденную стайку, мы галдели, перебивая друг друга, пока вниманием не завладел Стас, который объявил, что летом вместе с родителями едет под Ярославль и что он там обязательно переплывет Волгу. Стали спрашивать, какой ширины может быть в этом месте река, и он сказал, что около километра. Я смотрел на его возбужденное лицо, и вдруг меня опалило жаркое видение: Стас прыгает с высокого берега в воду и… всё. Я испугался: видение такой силы не сулило ничего хорошего. Когда стали расходиться, я догнал Стаса и по возможности убедительно сказал ему:
«Стас, тебе нельзя нырять с высокого берега»
«Чего-о?» – посмотрел он на меня свысока.
«Лучше не ныряй с высокого берега…» – повторил я упавшим голосом.
«Да иди ты!..» – бросил он и пошел дальше.
Я снова догнал его, схватил за рукав и почти взмолился:
«Ну, послушай меня! Я правду говорю! Честно!»
«Да пошел ты, Мишка, куда подальше! Чего прицепился?»
«Стас, ты можешь… утонуть!» – в отчаянии выкрикнул я.
«Чего-о? Утонуть? – презрительно скривился Стас. – Это ты, лягушонок, можешь утонуть, а не я! Всё, давай, вали!»
Я так и остался стоять, беспомощно глядя ему вслед.
А через месяц пришла весть, что этот хвастун напоказ девчонкам сиганул с крутого берега Волги и, напоровшись на корягу, утонул. О покойниках либо ничего, либо хорошо, но я, не ведая об этой пока еще мешковатой для моего возраста истине, в порыве бессильного отчаяния пробормотал, упирая на букву «р»:
«Дурак ты, Стасик, ну, дурак!»
Накануне похорон нам сказали, что тот, кто пожелает, может с ним проститься. Кого-то не пустили родители, однако я, заручившись разрешением матери, пришел. Это были первые похороны, свидетелем которых я был, но мне было не избавиться от назойливого впечатления, что всё это я однажды уже видел. Одноклассники робко подходили к гробу и тут же отходили, чтобы спрятаться за спинами взрослых. Девчонки плакали, мальчишки сурово отводили глаза. Происходящее не укладывалось в их одиннадцатилетних головах, оно было вне их горластого, жизнерадостного разумения. Из всех скорбящих только я был готов к тому, что случилось. Прощаясь со Стасом, я взглянул на его неживое лицо и тут же отвел глаза. Его так и похоронили с выражением обиженного недоумения.
5
То был первый раз, когда я так близко соприкоснулся со смертью. Буквально сказать, заглянул ей в лицо. Гнетущее впечатление от нашего знакомства усугубилось моей неудачной попыткой ей помешать. И все же смерть моего сверстника не поколебала мою веру в собственное бессмертие и в бессмертие моих родных. Подтверждением тому моя сестра, которая, по словам матери, не умерла, как остальные, а вознеслась на небо и теперь вместе с другими ангелами охраняла нас от всяких бед.
К моему двенадцатилетию я по-прежнему был умеренно озабочен своими и чужими неприятностями. Не то чтобы в моей жизни не было радостей – они были, нормальные детские радости. Это когда твоя сообразительность и ловкость делают тебя первым среди равных, а наградой – скупая похвала старших. И все же крепло подспудное убеждение, что в жизни неприятности важнее радостей. Почему-то именно они были у моей памяти на особом счету и исправно являлись мне, перед тем как случиться. Чтобы жить с этой напастью, надо было либо закрыть глаза и заткнуть уши, либо приобрести репутацию провидца и ею отводить грядущую беду. Не зная, что делается в головах других, мне, однако, и в голову не приходило считать себя каким-то особенным по части предсказаний. Да и как могло быть иначе, если каждый из нас запросто мог предсказать, что будет с нами через полчаса или даже через год. В первом случае будет урок русского языка, и училка вызовет Кольку Артамонова и поставит ему двойку, а после него – Людку Смирнову, и поставит ей пятерку, да еще и скажет: «Вот, Артамонов, учись, как нужно отвечать!». Ну, а через год мы будем уже шестиклассниками. А еще после уроков мы будем играть в баскетбол, и Яшка Гилевич, такой же неуклюжий, как и азартный, обязательно упадет и расшибет локоть или колено. И все же, почему предупреждаю только я? Кстати, все, кого я предупреждал, так и не вняли мне. Будь я поумнее, я бы зарубил себе на носу, что не каждый, кто предупрежден – вооружен: для того чтобы предупреждение вооружало, оно должно исходить от авторитета, а чтобы таковым считаться, необходимо иметь репутацию. Ну, ладно для других я не был авторитетом, но почему иногда выходило так, что я и сам не мог избежать того, о чем предупреждала моя память? А потому, скажу я вам с высоты нынешних лет, что есть события, планируемые нами и события, планируемые за нас. Только откуда мне это было знать в двенадцать лет, если многие не догадываются об этом и в сорок? И всё же, если я такой же, как все, а все такие же, как я, почему никто не предупредил меня, что после драки с Шуркой Злобиным из 5«Б» мою мать вызовут к директору и, предъявив разбитый нос Злобина, обзовут ее сына хулиганом? А ничего, что этот урод на моих глазах толкнул нашу Соньку Крылову так, что она упала, и у нее до резинок задрался подол? Ну да, она мне нравится, но я бы врезал Злобину за любую нашу девчонку! Сам-то я уже за пять минут до злосчастной перемены знал, что меня не должно там быть, но пошел туда и подрался. Несмотря на горячую защиту Соньки, мать восприняла директорский выговор близко к сердцу и, придя домой, рассказала все отцу. Отец, которому в детдоме не такое приходилось видеть, строго велел:
«Ну, что там у тебя случилось, выкладывай»
Я выложил. Отец повеселел и сказал:
«То, что девочку защитил – хорошо. То, что подрался на виду у всех, да еще в школе – плохо. Девочке надо было помочь, а этого обормота не трогать»
«Так мне что, училке надо было пожаловаться?» – загорячился я.
«Не училке, а учительнице. Тебе бы понравилось, если бы твою маму звали в школе училкой?»
«Нет» – насупился я.
«То-то же, – улыбнулся отец. – Нет, жалуются пусть другие, а я бы на твоем месте встретил этого типа в безлюдном месте и проучил бы как следует»
«Что ты такое говоришь?! – ужаснулась мама. – Ты чему ребенка учишь?!»
«Во-первых, он, судя по всему, уже не ребенок, а во-вторых, такова жизнь. Мужчина должен защищать себя и своих близких» – внушительно объяснил отец.
И вдруг прищурившись:
«А скажи-ка, Мишаня, девочка эта, за которую ты заступился, наверное, нравится тебе? Ну, чего краснеешь? Ну, ладно, ладно, всё, проехали…»
И обращаясь к матери:
«Видишь мать, у нас, слава богу, мужик растет, а не размазня какая-нибудь…»
Мой славный, несравненный отец! Вот кого я всем сердцем желал остеречь от неприятностей, тем более что при его должности (главный инженер локомотивного депо) их не могло не быть! Но видно это было не моего ума дело, и отец если и обсуждал их с матерью, то не в моем присутствии, отчего в моей памяти их не было. Он обладал уникальной способностью быть для всех своим – и для работяг, и для конторских, и для трезвенников и для горьких пьяниц. Вот у него авторитет, так авторитет! Бывало, идем с ним по локомотивному хозяйству, навстречу люди, и у него для каждого есть, что сказать, и каждый слушает, кивая и поддакивая, а выслушав, торопится исполнять. Никогда не слышал, чтобы он повысил на кого-то голос. Однажды после школы я, уже зная, что вечером он придет с работы и буднично скажет матери: «Ну, всё, подписали…», имея в виду приказ о его назначении начальником депо, спросил у матери:
«А почему наш папа не начальник депо?»
«Это уж надо его начальство спросить» – рассеянно отвечала мать.
«Скоро папа обязательно будет начальником депо» – заявил я.
«Ты-то откуда знаешь?» – воззрилась на меня мать.
«А ты разве не знаешь?» – удивился я, находясь в полной уверенности, что если знаю я, то должна знать и она.
«Что я должна знать? – забеспокоилась мать. – Папа что, днем звонил?»
«Нет, это я просто так» – свернул я разговор.
Вечером пришел отец и буднично сказал:
«Ну, всё, подписали…»
Мать со словами «Наконец-то!» кинулась его обнимать, а он со скупой улыбкой сказал:
«Накрывай, мать, на стол, надо отметить…»
Месяца через два мать, ласково улыбаясь, спросила:
«Мишулька, а ты хотел бы братика или сестричку?»
Я бы хотел, но что-то мне подсказывало, что этому не бывать. Так всё и случилось: еще через месяц отец привез домой поникшую, заплаканную мать, уложил ее в кровать, после чего они долго и горячо бормотали у себя за дверью. О том, что случилось, я узнал не от них, а от старшего товарища по двору, который, положа руку мне на плечо, сказал с суровым мужским участием:
«Сочувствую тебе, Мишка. У моей старшей сеструхи была такая же ерунда»
Слово за слово, и выяснились подробности, которые обогатили мой лексикон неприятным и неопрятным словом «выкидыш».
6
Слово было для меня новым, и все же мне показалось, что я его уже слышал, только хоть убей, не припомню когда. Впрочем, подобные казусы лишь укрепляли мое уже ставшее привычным ощущение, что всё, что со мной происходит, когда-то уже было. Получалось как в комедии про Шурика, который по отдельным приметам чужой квартиры вспоминает вдруг, что он здесь уже бывал. Кому-то, может, и смешно, а мне не до смеху. Ища подтверждение затмению экранного Шурика, я спросил у матери, может ли такое быть.
«Да, такое бывает, – ничуть не удивилась мать. – Дежа вю называется»
«Как, как?» – не понял я.
«Де-жа вю, – раздельно произнесла она. – Слово такое французское. Так и переводится – уже виденное. А почему ты спросил?»
«Просто интересно стало» – уклонился я, донельзя довольный, что я такой же, как все. В моем возрасте это было важно. Всякое отклонение в ту или иную сторону от среднеарифметических способностей моих сверстников имело свои последствия. Будь я в чем-то слабее, и мой удел в лучшем случае – покровительственная снисходительность. И наоборот: мои футбольные подвиги признавались постольку, поскольку они совершались во славу команды. Попробуй я ими бравировать, и мне быстро бы объяснили, что я лишь часть общей победы. То же самое с учебой: знания давались мне легко (я словно повторял однажды пройденное), а раз так, должен был делиться: подсказывать и давать списывать. Способностей, успехов и похвал следовало стесняться: заносчивых не терпят в любом возрасте.
В детстве, отрочестве и отчасти в юности не спрашивают, зачем живут. В эту пору просто живут и открывают мир. Искать же смысл жизни начинают, когда иссякает животворное детское начало. А пока всё в радость и каждое лыко в строку. Даже драка. А как иначе: подростковое сообщество живет по законам городских джунглей, будь это хоть в столице, хоть в провинции. Иерархия – мать порядка, но время от времени кто-то пытается оспорить у другого право верховенства или поставить кого-то на место. И это нормально – ангелы в джунглях не живут. Не были ангелами ни я, ни Витька Шихель – мой одногодок из нашего дома, с которым у меня сложилось негласное соперничество. Я был ловчее, он сильнее, и вызовы нашей незамысловатой, порывистой жизни мы преодолевали, словно напоказ друг другу. Мы были как два молодых кота на одной территории с ее чердаками, подвалами и кошками. До поры, до времени дело обходилось взаимным шипением, но было ясно, что рано или поздно мы должны будем сцепиться. И вот как-то раз мартовским вечером, мглу которого потемневший снег только усугублял, наша дворовая компания, остывая от дневных забот, перебрасывалась ленивыми фразами, перед тем как разойтись по домам. Главное уже было сказано, впереди нас ждал новый день, и вдруг Витька ни с того ни с сего ляпнул в мою сторону:
«Ну что, Мишка, вы с Сонькой Крыловой уже целуетесь?»
От такой неслыханной наглости я на несколько секунд оторопел, чем он воспользовался, обратившись к остальным:
«Представляете, пацаны, они после уроков сначала поют, а потом целуются! Как в кино!»
Мысли мои заметались от злобного «Не твое собачье дело!» до унизительного оправдания, что меня заставили ей аккомпанировать, но два старших товарища обидно заржали, и довольный Витька вконец обнаглел:
«Ты, Мишка, поосторожнее, а то будет выкидыш, как у твоей мамаши!»
И тут я ему врезал прямо в глаз. Он кинулся на меня, мы упали и покатились на виду у всех. Он был сильнее, он оседлал меня и принялся лупить, метя в лицо. Я прикрывался, как мог, чувствуя, что положение мое аховое. И вдруг глаза обожгла яркая картина того, чему суждено быть: Витька добивает меня, лежачего, потом встает, торжествующий, и хрипит: «Ну что, сука, получил? Хочешь еще?» И за этим вселенский позор, который отравит меня, униженного и побежденного, на долгие годы. «Не-е-ет!!!» – внезапно взревел кто-то внутри меня и удесятерил мои силы. В следующую секунду я отбил Витькину руку и чугунным ядром, в которое превратился мой правый кулак, угодил ему прямо под дых. Витька онемел, разинул рот и стал похож на выброшенную на берег рыбу. Опрокинув его, я стал молотить по безвольно мотающейся башке – справа, слева, справа, слева – до тех пор, пока меня не оттащили. Меня держали за руки, я хрипел: «Ну что, сука, получил?!», а кто-то торопливо бубнил мне в ухо: «Всё, Мишка, хорош, хорош…»
Так в канун моего тринадцатилетия во мне наперекор покорной судьбе поселилась желтоглазая тигриная ярость. Я пришел домой с расквашенными губами и подбитым глазом и торжествующе объявил перепуганной матери:
«Я его победил»
«Кого?!» – заломила руки мать.
«Витьку Шихеля. И теперь меня никто не победит»
В прихожую вышел отец. Увидев, в каком я виде, сказал матери:
«Иди-ка, мать, в комнату, мы тут побеседуем»
Мать ушла, и он велел:
«Рассказывай»
Я рассказал все, как было, в том числе про выкидыш.
«Ну, и кто кого?» – спросил отец.
«Конечно, я его!» – скривился я от боли.
Отец помолчал, разглядывая мое лицо, а потом спросил:
«Больно?»
«Нисколько» – мужественно шевельнул я разбитыми губами.
Отец осторожно взъерошил мои волосы, потом встал, открыл дверь в комнату с матерью и сказал:
«Иди, мать, лечи героя»
Дальше были примочки из календулы и заслуженный сон.
7
Наутро я проснулся как от толчка. И тихое облегчение внутри – словно меня освободили от тяжкой, гнетущей ноши. Было позднее утро – время героев и победителей. Впереди – почести и слава. Я встал, и мои плечи расправились сами собой. Отец уже ушел на работу, мать – по своим делам, у меня же начались весенние каникулы или мартовские иды, как их называла мать. Я прошел в ванную и посмотрел в зеркало. Оттуда на меня глянула чужая распухшая физиономия. Жаль, что не надо идти в школу. Я представил ахающий щебет девчонок и уважительные взгляды одноклассников. «Ты чего такой?» – спросит кто-нибудь, и я небрежно отвечу, что проучил одного урода. Найдутся свидетели, и история о том, как Мишка Королев отметелил Витьку Шихеля пойдет гулять по школе, обрастая подробностями.
Обошлось без последствий. Отец переговорил с отцом Витьки, тот добавил сыну за грязный язык, и Витька стал обходить меня стороной. Все же я его подкараулил и пообещал:
«Еще раз полезешь – убью»
«Да пошел ты!» – шарахнулся Витька.
Через полгода он и вовсе переехал с родителями в другой город.
После драки со мной определенно что-то произошло: внутри словно образовался крепкий стержень, не позволяющий мне отныне сгибаться перед кем бы то ни было. Кроме того, у меня появился авторитет, что и подтвердил один из старших друзей, сказав мне:
«Ну ты, Мишка, зверь! Если бы мы тебя не оттащили, ты бы его убил!»
Я вдруг представил себя на месте побежденного Витьки, и мне стало его жаль.
На каникулах должна была состояться городская художественная олимпиада, на которой мы с Сонькой Крыловой должны были исполнить военную песню «В лесу прифронтовом», и когда я через два дня явился со своим лицом в школу на генеральную репетицию, учителя едва не попадали в обморок. Номер был под угрозой. Выручил учитель пения Владимир Иванович, который предложил нарядить Соньку медсанбатовской девчонкой, а меня – раненым солдатом с гармонью. Идея понравилась. Нашлись гимнастерки, мне для пущей правды забинтовали голову, и Сонька выдала такой вдохновенный вокал, а я такой отчаянный проигрыш (чуть баян не порвал), как будто нам и правда после этого в бой! Зрители повскакали с мест, нас несколько минут не отпускали со сцены. Каково же было изумление членов жюри, когда выяснилось, что синяки и ссадины у гармониста настоящие! Это, однако, не помешало наградить нас почетными грамотами. Для меня же самым удивительным было то, что вместо нашего оригинального номера и почетных грамот мой внутренний информатор попытался подсунуть мне блеклую картинку нас с Сонькой – прилизанных, наутюженных, натужных. Картинка сконфузилась и растаяла, оставив после себя предчувствие чего-то незнакомого и волнующего. За нашей первой песней последовала вторая, за ней третья, затем к Соньке присоединились две ее подружки, и наше трио стало гвоздем школьной самодеятельности. С тем и пошли в седьмой класс.
Ох, уж эта Сонька, самая яркая девчонка наших трех седьмых классов! Да что там седьмых – всей школы, пожалуй! Из семьи врачей, на удивление ладная, своенравная, с мелодичным, звонким голосом, пригожим, капризным личиком, тугой золотистой косой, громкими суждениями и командирскими замашками. Сюда же точеные, что называется, ножки, которые она подволакивала с трогательной детской косолапиной. Именно с ней испытал я первые схватки нарождающегося сердечного томления. Тем, что я дважды за нее заступился (хотя, по сути, оба раза я вступался не за нее, а за справедливость), я, сам того не ожидая, заслужил ее благосклонность, которую она понимала весьма своеобразно. Отделив от прочих поклонников, она утвердила меня в должности доверенного по особым поручениям. Например, могла сказать: