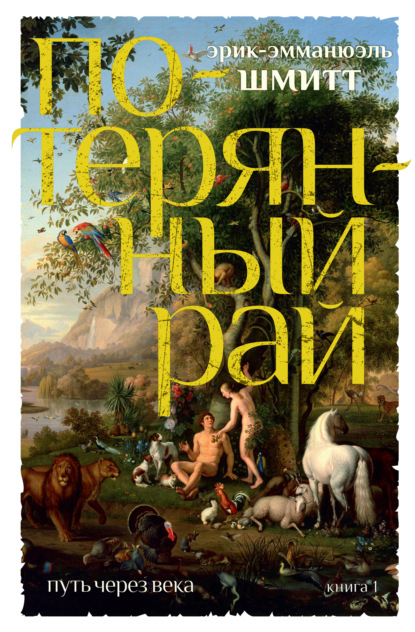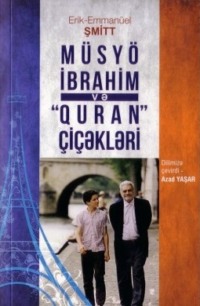Полная версия
Темное солнце
Благодаря моему искусству целителя местные жители согласились принять нас в свое сообщество. Мы с Нурой были им полезны, что нам помогло завоевать их расположение.
Мужчинам я открыл то, что освоил в Стране Кротких вод: колодезный журавль и письменность.
Журавль? Я немало пожил среди тех, кто укротил Тигр и Евфрат, и теперь усовершенствовал этот механизм для подъема воды. Шест с ведром на конце был укреплен на вершине столба, врытого в землю. Шест наклоняли, чтобы зачерпнуть воды из реки, подымали, вращали относительно столба и выливали воду либо сбоку, либо сзади: в устроенный повыше водоем. Эта процедура позволяла в безводные сезоны – особенно в сияющую зимнюю сушь – орошать поля с помощью каналов. Люди освоили орошение, затем стали сопровождать эту работу пением, медленной мелодией из трех нот, ясной и умиротворяющей, днями напролет висевшей в безоблачном небе.
А письменность они придумали и без меня. Кто-то уже схематично рисовал продукты питания для составления учетного перечня. Я предложил им наряду со знаками-предметами ввести знаки-звуки, которые отсылали бы к звучанию слова, – без смешения идеограмм и вокабул письменность сумеет выразить лишь немногое.
И наконец, нашу задачу упростило одно растение, в изобилии росшее по берегам Нила; оно навсегда расширит границы сознания, откроет новое будущее, ускорит развитие культуры.
Этому изящному нефритово-зеленому тростнику, растущему кустами или сплошными зарослями, удалось совершить неслыханный подвиг; внешним видом он соединял небо, воду и землю – небо, потому что вершина устремленного вверх стебля увенчивалась звездообразной розеткой листьев, подобной солнцу с его лучами; воду, потому что его стебель фонтаном взлетал из воды; землю, потому что его корни крепко цеплялись за почву, прочные корни, из которых мастерили кухонную утварь. Его считали очень умным и даже способным путешествовать! И верно, я не раз замечал группу этих тростников, вместе оторвавшихся от почвы и образовавших плавучий остров, они вольно устремлялись покорять новые земли, и не было им дела ни до берегов, ни до животных, ни до людей.
Солнечная душа этого растения, его независимость и быстрый захват территорий вызывали уважение прибрежных жителей, которые считали его священным и старались постичь его богатства. В истории оно сохранилось под именем «папирус».
Они его жевали, высасывая нежный, довольно пресный сок, а волокна выплевывали. Из цельных стеблей строили лодки; из стеблей, расщепленных на тонкие слои, мастерили корзины, циновки и сандалии. Исследуя его иные возможности, они изобрели первую «бумагу», гладкую, чистую поверхность, пригодную для рисунков и записей, которая пришла на смену тяжелым и хрупким месопотамским глиняным табличкам.
Изготовление папируса занимало недели. Мужчины выдергивали тростник, срезали листья и корни, затем острым ножом очищали стебель от горькой коры. Потом разрезали нежную мякоть на широкие полосы, гибкие и тонкие, которые еще утончали отбиванием. Затем долго вымачивали, многократно меняя воду, чтобы удалить сахар. Полосы выкладывали на доску, одни горизонтально, другие вертикально, двумя слоями. С помощью звериных шкур и камней конструкцию пригнетали и на несколько дней оставляли сушиться на солнце. После этого этапа, необходимого, чтобы избежать появления плесени, проходились по заготовке валиком из слоновой кости, выравнивая шероховатости и полируя страницу, – но в меру, поскольку на чересчур глянцевой поверхности чернила не оставят следа.
На берегу божественной реки, запасшись этим чудесным папирусом, я просидел многие месяцы напролет с моими новыми друзьями, стариком Экаем и юношей Меми, которым хотелось приручить знаки и овладеть ими.
Светло-серые глаза опаленного солнцем здоровяка Экая так освещали его лицо, что оно, казалось, излучало седую гриву и бороду. Годы выгравировали на его лице улыбку; то, что у других было морщинами, у него стало выражением непреходящей радости. Несмотря на скрючивший тело ревматизм, кисти рук и пальцы сохранили гибкость и позволяли ловко орудовать кисточкой: несколько взмахов, и на буром папирусе возникали женщина, кошка, лотос или ибис; его цветы дрожали от нежного дуновения, а крокодилы и змеи отличались такой живостью, что мы опасались, как бы они нас не куснули. В отличие от художников, встреченных мною позднее, Экай был новатором. Никто до него канонов не устанавливал, и его кисточка сновала легко, свободно и беззаботно: он не повторял, он творил.
Рядом с этим коренастым стариком, чья атлетическая комплекция в те времена могла казаться пугающей, сидел юноша совсем иного телосложения, шестнадцатилетний Меми. Голова коротышки упиралась в массивные плечи, лицо было весьма выразительно; Меми не развился и не вырос, как обычные дети. Однако эти особенности придали ему достоинства, поскольку на берегах Нила карликов считали выдающимися созданиями: редкость была свидетельством драгоценности. Они воплощали не ошибку природы, но говорили о ее силе и изобретательности, то был знак божественного присутствия. Семья Меми пользовалась почетом, сумев произвести на свет столь необыкновенное дитя, вовсе не уродливое, а чудесное, и в благодарность приносила ежегодные пожертвования Бэсу, карликовому божеству, из века в век все более почитаемому[22]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
За ваше здоровье! – на шведском, норвежском и датском языках тост, восходящий к традиции викингов, к воинственному кличу, означавшему призыв пить вино из черепа поверженного врага. –Примеч. перев.
2
Вольный перевод М. Кузмина. –Примеч. перев.
3
Читатели эпопеи помнят, что автор намеренно вводит непривычное для нас, более древнее, восходящее к аккадскому периоду название Вавилона. Об этом он пишет в книге «Врата небесные». См.: Шмитт Э.-Э. Путь через века. Кн. 2. Врата небесные. М.: Иностранка, 2022. С. 125. –Примеч. перев.
4
Я не знаю другого народа, идентичность которого в такой степени основана на несчастье. История еврейского народа – это непрерывный ряд проектов его истребления, которые срывались в самый последний момент. Первым набросился на него Бог – который, впрочем, его и избрал – и принялся его истязать: Всемирный потоп стал настоящей катастрофой, которую пережила лишь семья Ноя; затем Бог ожесточился на тех, кто сетовал на голод, он наслал на них змей и умертвил критиканов; в 597 году до н. э. подключается царь Навуходоносор II и уводит знатных иудеев в плен из Иерусалима в Вавилон; затем Седекия опустошает город, за пять лет происходят и новые пленения. Наконец Иерусалим завоевывают римляне и отправляют множество невольников в Рим: так на Западе образуется первая диаспора. Восстание иудеев в 66–70 годах оканчивается бедствием, полным разрушением Храма, накануне появления второй диаспоры. Затем тянется долгий ряд гонений и преследований вплоть до XX века, когда Гитлер затевает полное истребление еврейского народа. После беспрецедентной Катастрофы еврейский народ провозгласил образование своего государства, обосновался на исконных землях, но на сей раз ему приходится делить вновь обретенную территорию с законными насельниками.
Кто еще смог бы противостоять всем этим атакам, депортации, истреблению? Душу евреев определяет стойкость, эта внутренняя сила, позволяющая им возрождаться из пепла. Если бы евреи сопоставили поражения и победы, усеивавшие их историю, явный перевес оказался бы на стороне поражений. Однако самой большой победой можно назвать их способность возрождаться после провала. –Здесь и далее примеч. автора, кроме отмеченных особо.
5
Месопотамия.
6
Палестина расположена между Средиземным морем и Мертвым. Семиты называли Большим морем, а египтяне – Великой Зеленью то, что латиняне позднее окрестят Mare nostrum, а затем – Средиземным морем, потому что, с их точки зрения, отличной от точки зрения жителей Ближнего Востока, эта водная гладь простиралась «среди земель». Соленое море – это бессточное озеро, куда впадает Иордан; путешественников озадачивала его соленость: она удерживала их на водной поверхности и не позволяла в нем обитать рыбам и водорослям, что подтолкнуло любителей драматизировать реальность назвать этот водоем морем Смерти, или Мертвым морем. В конце концов в этом поединке названий выиграли пессимисты!
7
Я видел, как луга по ходу тысячелетий меняли цвет. Трава была по-прежнему зеленой, а стада посветлели, пигментация шерсти и шкуры животных изменилась. В старые времена своим природным окрасом они затемняли пейзаж: овцы и свиньи были черными, козы – рыжими, лошади – гнедыми, коровы – бурыми. Затем животноводы занялись селекцией и скрещиванием, и вот в XVIII веке овцы побелели, в следующем свиньи оделись в розовый шелк, а в XX веке коровьи стада запестрели бежевым, желтым и пегим. Нет ли тут творческого безумия, хвастовства своей властью? Я связываю эту цветовую эволюцию домашнего скота с колониальными завоеваниями и промышленной революцией, которые происходили в ту же эпоху: повсюду, и в животном мире, и в социальном устройстве, утвердилось превосходство белого человека. А он не только завладел землями и подчинил местное население, но и сумел уподобить себе окружающий мир и даже высветлил сельский пейзаж.
До сих пор при виде равнины я испытываю удивление, ведь несколько веков не стерли воспоминаний, запечатленных в юности. Панорама утратила прежний красно-коричневый колорит. И если мне хочется сегодня оживить давнишние ощущения, я отправляюсь в музей, любуюсь полотнами эпохи классицизма, картинами Никола Пуссена или Саломона ван Рёйсдала, узнавая пейзажи своего детства.
Недавно я был поражен уместностью термина «marronnage» (отmarron – каштановый. – Примеч. перев.), возвращение одомашненных животных к дикой жизни. Если вначале он означал бегство рабов, которые укрывались в дебрях дикой природы, то позднее его связали с одичанием домашних животных, и это очень точное слово: одичавшие собаки спустя несколько поколений вновь обретают темный окрас.
8
Сегодня эти территории определяют как Западный берег реки Иордан.
9
Целомудренник теперь называют прутняком обыкновенным. Будучи целителем, я когда-то прописывал от бесплодия традиционные снадобья: настой листьев малины, отвар красного клевера – согласно убеждению, что красное подстегивает кровь. Касательно прутняка мой наставник Тибор установил, что его фиолетовые цветы усмиряют мужской пыл, и Тибор рекомендовал их, когда родители хотели обуздать горячего мальчика-подростка или жена мечтала укротить ветреного мужа. Когда мы расставались, Тибор высказал предположение: «Это растение добавляет женского к мужской особи. Но отчего бы ему не добавить того же и к женской особи и сделать ее еще более женской? Надо бы испытать его при женском бесплодии». Доверившись его интуиции, я занялся этими испытаниями и убедился, что Тибор был прав. В Древней Греции прутняк широко использовали для укрощения либидо у воинов, а в христианскую эпоху его применяли служители церкви, отсюда и еще одно название прутняка – монашеский перец. В Средние века им набивали матрасы дурных слуг, чтобы те вели себя потише. Современная наука признает за прутняком способность гормональной регуляции: он уравновешивает продукцию эстрогенов и блокирует действие тестостерона. Его назначают женщинам, в организме которых иссякает запас яйцеклеток. Как нередко случалось, мой наставник Тибор, рассуждая по аналогии, оказался прав.
10
В древних Афинах такую смесь официально применяли для умерщвления преступников. Когда суд объявил приговор одному знаменитому осужденному, философу Сократу, тот решил сам принять яд в окружении учеников, и впоследствии его назвали «яд Сократа». Речь идет о зеленых семенах болиголова крапчатого, к которому добавляли опиум. Действие первого уравновешивается влиянием второго: цикута провоцирует сильные спазмы, а опиум снижает осознание происходящего и уменьшает судороги. Платона обвиняли в том, что он приукрасил (облагородил) агонию своего учителя, но он не преувеличивает, называя кончину Сократа мирной: «Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину: так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени и немного погодя – еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец прикоснулся в последний раз и сказал, что, когда холод подступит к сердцу, он отойдет. Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся – он лежал, закутавшись, – и сказал (это были его последние слова): „Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте“. – „Непременно, – отозвался Критон. – Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?“ Но на этот вопрос ответа уже не было» (перев. С. Маркиша). Позднее, в I веке до н. э., царь Митридат VI научился защищаться от этого яда странным методом: он принимал его понемногу каждый день. Этот юноша видел, как отец отравил его мать, его собственную жизнь сопровождали подозрительные неприятности, и у него были все основания быть начеку. Он отравлял себя малыми дозами яда, чтобы стать невосприимчивым к большим. Его тактика легла в основу выработки «митридатизма»: введения малыми дозами токсичных веществ для выработки к ним иммунитета. Я не думаю, что этот метод так уж хорош: если Митридат, достигнув зрелых лет, оказался в безвыходном положении, ему не удалось покончить жизнь при помощи яда и пришлось прибегнуть к холодному оружию, то лишь потому, что самому ему оказалось яда недостаточно, после того как он поделился им с двумя дочерьми. Но я полагаю, что «митридатизм» сродни современной десенсибилизации: скажем, аллергию лечат, приучая организм справляться с данным аллергеном – пчелиным, осиным, муравьиным ядом. Этот метод не имеет ничего общего с вакцинацией, которая защищает организм, стимулируя иммунную систему к выработке антител.
11
Почему Авраам так упорствовал? Обычно пастухи закапывали своих покойников и двигались дальше; если они возвращались, то не находили следов захоронений, которые были недолговечны. Но страсть Авраама к Сарре отвергала такую эфемерность. Без собственности нет долговечной памяти. Евреям это казалось странным и даже возмутительным; но и оседлым людям тоже: участок земли они приобретали, чтобы жить на нем и жить им, но не для захоронений.
12
Этот жест, Qeri’ah, стал ритуальным. Семеро близких покойного в знак траура раздирают свои одежды у сердца, перед опущением гроба в землю, и хранят их семь дней, прежде чем выбросить. Позднее, из соображений экономии, евреи заменили одежду, приносимую в жертву, черной лентой на груди.
13
Если Нура и простила Авраама с Агарью, то было прощение умышленное, данное только разумом. Сердцем она еще не простила их и душевного прощения, внутреннего мира и покоя не ощутила; она по-прежнему кипела гневом. Доказательство тому я получил несколько веков спустя, когда ей вздумалось заглянуть в Библию. Читая Бытие, она обнаружила, что после ее смерти Авраам не только женился на Агари, назвавшейся Хеттурой, но и имел от нее шестерых сыновей: Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Она так разбушевалась, что я едва удержал ее от поездки в Палестину, в Хеврон: ей хотелось разорить грот, ставший усыпальницей Патриархов. Конечно, Хеттуры там не было; конечно, Авраам велел положить себя рядом с Саррой; конечно, монументальные работы Ирода Великого укрепили гробницу, Махпелу, упрятав его под каменной кладкой; но отчаяние Нуры искало выход. Любовь и горячность у нее – родные сестры.
14
Можно ли встретить одного и того же человека в разные века? Свидетельствую, что да. За несколько тысяч лет такие встречи случались у меня не раз. Так, в Лионе, в 1871 году я столкнулся с Авраамом.
Несколько месяцев кряду город сотрясали бунты, народ восставал против властей. Поначалу выступления были мирными, затем они переросли в яростные мятежи. После вмешательства вооруженных сил конфликт стал кровавым. Каждый желал смерти противнику: бедные требовали смертной казни для богатых, богатые – уничтожения бедных. Кучка повстанцев захватила ратушу на площади Терро и провозгласила мировую революцию. Лион превратился в мировую столицу социализма. В этом городе на двух холмах я был проездом, направляясь в Марсель; тем временем дело приняло дурной оборот. И местная власть немало тому поспособствовала.
В темном вонючем туалете одного бистро я увидел странного человека: он гримировался. Он отрезал несколько завитков своей густой гривы, те упали в раковину, и стал примерять перед зеркалом круглые очки с синими стеклами. Я носил похожие очки, чтобы остаться неузнанным; волосы мои были выкрашены. По этим признакам он угадал, что я скрываюсь. «Ты прячешься, друг?» Я кивнул. «От кого?» – «От женщины, которая может меня узнать». – «Вот счастливчик!» Это сообщничество мигом установило между нами братские отношения, мы выбрались из забегаловки и углубились в проходные дворы: их сеть пронизывала старый город и позволяла безопасно двигаться по кварталам, не высовываясь на улицы, которые патрулировали солдаты и жандармы.
Мы нашли прибежище на постоялом дворе близ городских ворот. Изгнанник, голодный и без гроша в кармане, жадно набросился на предложенную пищу и непрерывно говорил. Глядя на него и слушая его рассказ, я невольно вспоминал вождя евреев. Как и у Авраама, у этого человека была мощная стать, горящие глаза, широкий лоб, борода, усы и густая грива. Как и рядом с Авраамом, рядом с ним всякий казался рохлей. Как и Авраам, мой случайный товарищ многие годы бродил. Как и Авраам, он выступал против собственности и хотел упразднить наследственное право. Как и Авраам, деревню он предпочитал городу и сельских жителей – горожанам. Как и Авраам, он клеймил Город. В Государстве он видел лишь призванную защищать привилегии систему доминирования, переходный институт, временную форму общественного устройства: Государство не устанавливает порядка, благоприятного для всех, но поддерживает его видимость, утверждаемую меньшинством, которое использует себе во благо неосведомленное большинство народа; Государство губит ум и душу человека; и можно ли ожидать, что оно вдруг сделается добрым и справедливым, если оно упорно закабаляет массы и порождает их разложение.
Но вскоре я увидел и различия. Он был грузным, тогда как Авраам – жилистым. Он был Авраамом гневным, неумолимым и неутолимым: он жаждал разрушения; реформы его не устраивали; он требовал революции, а инструментом ее полагал насилие. «Надо было не занимать ратушу, а поджечь. Предать огню все, что воплощает Государство и Капитал: трибуналы, казармы, банки и тюрьмы. Надо атаковать не людей, а символы и позиции».
Наконец за десертом, после трех кувшинов вина, мой сотрапезник представился: он из России, знает философию, пять языков и взрывчатые вещества; зовут его Мишель Бакунин. Стоя на крайних рубежах радикализма, он называл себя врагом Карла Маркса и банкиров Ротшильдов, коммунизма и капитализма. Он был поборником анархизма.
Расстались мы на следующий день; он направлялся в Швейцарию, что при таких убеждениях было весьма странным. Я так и не сказал этому великану с манерами конспиратора и темпераментом террориста, что он напомнил мне Авраама. Помимо Государства и Капитала, Бакунин ненавидел Бога. Сказав ему, что он похож на основоположника трех монотеистических религий, я нанес бы этому воинствующему атеисту тяжкое оскорбление.
15
Это был нильский китоглав, гигантский представитель аистообразных, высотой метр двадцать, размахом крыльев – два метра, с похожим на башмак клювом, который бывает больше головы. Хищный властелин болот, он питается рыбой, амфибиями, грызунами, птенцами, выпавшими из гнезд, устроенных в соцветиях папируса, и даже молодыми крокодилами. Несмотря на свое заносчивое превосходство, в день написания этих строк птица находится на грани вымирания.
16
Пустыня – это песчаный океан, так, значит, оазисы – его острова? Вовсе не так! Если на остров тебя выносит случайная буря, течения и волны, то к оазису ведет лишь дорога. Если остров затерян в океане, то оазис возникает как узел сети. К нему сбегаются тропы, потому что вода, тень и фрукты притягивают измученных жаждой странников. Но и сам оазис – детище троп, ведь его обитатели, растения и скот прибыли сюда с караванами. То есть и дорога порождает оазис, и оазис порождает дорогу. Он не изолирован и не самодостаточен и, стоя на пересечении путей, дает приют и располагает запасами. Этот неподвижный узел, завися от тысяч мимолетных встреч и делая их возможными, больше похож на порт, чем на остров.
17
Ливийцы.
18
Дромадера еще не одомашнили. Это произойдет лишь в 2000 году до н. э. на Аравийском полуострове.
19
Позднее я узнал, что видеть пустыню, когда испытываешь жажду, значит не видеть ничего; я открыл ее соблазн, ее духовную энергию, ее ослепительную тишину, замешанную на тайной музыке. Сегодня мы лишь движемся от оазиса к оазису по унылым просторам. Как жаль, что ты вечно стремишься куда-то прийти! Цель обесценивает путь. Надо идти не куда-либо, а просто идти.
20
Тогда мы не знали о великом терпении Нила. Мы думали, что он был всегда. Мы не подозревали, что это чудо жизни, этот зеленый змей посреди бескрайних и мертвых пустынь появлялся на планете постепенно, что он тридцать миллионов лет неутомимо пробивал свое русло, спускаясь с высоких африканских плато, протекая по гранитным глыбам и разъедая их, выглаживая и шлифуя, а затем принося каждое лето ил, обеспечивавший плодородие земель Египта.
Человечество долго не ведало о происхождении и эволюции загадочного Нила. Происхождение? Для древних египтян он символически начинался с первого водопада, оттуда, где находится святилище Хнума; выше Нил связывался с именем Нуна, воплощавшего изначальную водную стихию; лишь в XIX веке удалось подняться к истокам Нила и выяснить, что он возникает при слиянии Белого Нила, текущего из озера Виктория на экваторе, и Голубого Нила, берущего начало в озере Тана в Эфиопии. Эволюция? XX век определил ее этапы.
В представлении древних народов география не имела истории. Мы понимали лишь длительность человеческой жизни, не подозревая о длительности геологической. В этой древней реке мы видели только свежую, юную и живую воду. Но геология наделила географию толщей времен.
21
Если не считать построек в Стране Кротких вод – Месопотамии, – где применялись кирпичи из глины, высушенной на солнце или обожженной в печи.
22
Египтяне взирали на карликов с восхищением – хоть иногда и путали их с пигмеями – и считали, что те наделены небесными дарами. Карлики занимали важные посты при фараонах и прочих сильных мира сего. Если и была дискриминация, то в хорошем смысле. Так, о Сенебе говорили как о «великом карлике», знаменитом во времена V династии, высокопоставленном чиновнике, удостоенном множеством религиозных, общественных и почетных титулов и похороненном в великолепной усыпальнице близ пирамиды фараона Хуфу в некрополе Гизы.
Впоследствии греки стали считать их телосложение патологией – Аристотель даже пытался ввести клиническую классификацию. Более того, греки презирали телесную оболочку карликов, которая не вязалась с их культом анатомического совершенства. При переходе из Египта в Грецию карлики много потеряли: из чудесных и исключительных созданий они превратились в больных уродов. Вообще говоря, история показывает, что карликом лучше было родиться на юге, чем на севере: в Европе их ценили скорее за ловкость при разведке горных коридоров, добывании драгоценных металлов и камней. И вот северные народы прониклись мыслью, что миссия карлика – охранять подземные богатства. Отголоски этих представлений мы находим в сказке о Белоснежке.
Греки развили идею нормы, чуждую египтянам. Наблюдая совокупность общих черт индивидуума, они вывели из этой общности среднюю величину, затем из нее сделали норму. Норма – это не просто среднее значение, ей приписываются оценки хорошего, практичного и совершенного. Из средней величины возник образец. Мы и сегодня продолжаем следовать этому шаблону.