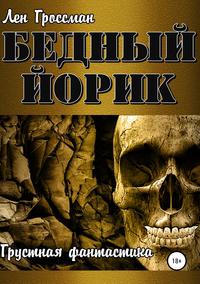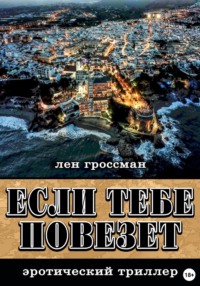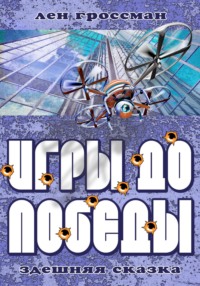Полная версия
С точки зрения зеркала

Лен Гроссман
С точки зрения зеркала
Я не боюсь бессмысленных поступков. К примеру, если бы мне посчастливилось, я смог бы начать все сначала. И, вероятно, именно так и поступлю. Когда найду в этом смысл.
Пока что я стараюсь быть чуточку мудрее, чем прежде, и не портить себе настроение по пустякам. Именно по этой причине я запрещаю себе думать о прошлом. Меня пугает желание снова впрячься в суету, которая обречена на забвение.
Вероятно, самый большой из моих минусов заключается в том, что я слишком хорошо знаю правила игры под названием «успех». У нее тысяча лиц. Одно из них называется «работа на перспективу». Другое – «желание быть на переднем крае». Но, по большому счету, эта игра всегда посвящена одному и тому же – потоку аплодисментов, предназначенных для дьявола по имени «научный прогресс».
Иногда я думаю о том, кем бы я был, если бы жизнь предоставила мне возможность начать все сначала. И с каждым новым годом, отделяющим меня от прошлого, я все чаще думаю о профессии художника особого рода – профессии, которой, пока что, нет.
Такой художник не пытается отсечь от реальности то, что кажется лишним. Он знает: лишнего нет. Вместо этого, он пытается изобрести форму идеальной рамы. В ее пустое пространство можно будет вместить ту часть реальности, которой всегда окажется достаточно для всего: для смысла и настроения. Речь не идет о копировании. Нужно, всего лишь, попытаться угадать, что именно окажется не слишком пугающим внутри идеальной формы. В идеале – пугающим менее всего.
Можно объяснить это по-другому. Не так уж трудно предположить, что по профессии я, что-то вроде ластика. Есть такой инструмент для удаления ошибок в наборах карандашей и угольных стержней. На случай, если что-то пошло не так: линия жизни, вензель удачи, грязь от случайного пятна на судьбе.
Мне бы не хотелось иметь ничего общего с художниками, которые подбирают рамы под нечто, более важное, чем обрамление все равно чего. Речь о поэзии безымянных рам, которые жаждут наполниться избранной реальностью.
Нет, в этом, пожалуй, в самом деле, что есть, и если бы мне удалось начать все сначала, я обязательно стал бы мастером по изготовлению рам. Всего их многообразия. И великолепия. Мне кажется, есть что-то волшебное в лицезрении оклада, в котором ничего нет. В эту пустоту можно вправить едва ли не что угодно, хотя на поверку, всякий раз оказывается, что нет, далеко не всё! Это что-то вроде терапии особого рода. Потому что лишь ей одной дано примирить с тем, что исправить нельзя – я говорю о прошлом.
* * *
К началу этой истории, я молодой, не чуждый спорту, не без чувства юмора и, к тому же еще и не урод, уже сделал себе какое-никакое имя, как говорят в таких случаях, в узких научных кругах благодаря созданию формулы угнетения брахмирадоплазы,– страшного по своим интоксикационным свойствам продукта распада органических соединений найденных на Пуэрта-Ла-Ретто в таком изобилии, что мы уже готовы были предположить: проблема с горючим для заправки астротраков решена раз и навсегда. Никто и предположить не мог, во что превращаются замерзающие в космическом вакууме продукты сгорания этого нового, и как всем тогда казалось, универсального по своим качествам топлива.
Вобщем, хотя до Нобелевки мое открытие не дотягивало, но две-три, не столь шумных научных премий мне, все же удалось получить, не говоря уже о хорошо принятых публикациях в уважаемых журналах.
Директор моего института сразу же предложил мне создать новый отдел вокруг темы моего очередного исследования. В то время я был предельно занят уточнением формулы подавления фазы цветения разумного растения Пэло-Врай, широко распространенных в средних широтах планеты Лефт-Кун-Ри. По странному совпадению, у его листьев был тот же пошлейший розовый оттенок, что и у Ка-Уме-Цор – звезды, вокруг которой вращалась планета. В первую по счету экскурсию, с трапа космического корабля на поверхность новой, в звездных каталогах, планеты, ступило четыре землян-первопроходцев. И всё было бы ничего, если бы столько же их вернулось домой. Но их – все равно, с какой стороны считать – было шестнадцать, и никто не знал, кто среди них подлинный землянин, а кто его, ничем не отличимая от оригинала копия, с которой, опять-таки, что-то нужно было делать, при том, что никто не знал, кто возьмет на себя ответственность за принятие какого бы то ни было решения в такой, прямо-таки, распоясавшейся истории…
Я, разумеется, недолго ломался, прежде чем согласился возглавить новый отдел, тем более что плюсов в виде существенного роста в зарплате было больше, чем сопряженных с плюсами минусов в виде более чем ограниченного числа подчиненных. К сожалению, исследования, которыми я занимался, никогда не отличались монументальной масштабностью оборудования, которое предстояло перевести из разряда «работающего от случая к случаю» к «нуждающемуся в капитальном ремонте», а также числом, вовлеченных в эксперименты лиц, которые видели свое основное предназначение в том, чтобы крутить ручку громкости телевизора всякий раз, когда передавали прогноз погоды.
Тем не менее, работа, как ни странно, подвигалась, при том, что уже первая неделя, потраченная на пробные эксперименты и коллективные мозговые штурмы ясно показали одно: решить эту проблему с наскока не получится.
Истовая страсть, с которой пахучие молекулы цветущего растения Пэло-Врай занимались самоопылением менялась буквально на глазах при неизменных условиях эксперимента всякий раз, когда им того хотелось. Больше всего это напоминало мутацию не поддающегося антибиотикам вируса гриппа, который, казалось, включал в себя, по меньшей мере Нострадамуса, потому что он заранее чувствовал время очередной на него атаки, и это знание включало механизм мутирования, в ходе которого вирус полностью преображался и встречал армию молекул только что изобретенного антибиотика во всеоружии.
Довольно быстро мне стало ясно, что прежде чем заниматься выявлением структуры вещества, способного умертвить могучую волю растения к самоопыления, необходимо было нейтрализовать механизм мутирования. Проблема была лишь в том, что ни я, ни мои подчиненные не знали, как это сделать. Тем временем расходы на содержание нового отдела, росли. Приглашенные на контрактной основе два спеца по дешифровке ДНК из соседнего научного института явно напрасно просиживали у нас штаны, получая зарплату за одно только присутствие в составе очередной рабочей смены. И я, и эти самые спецы шалели от вида, открывавшегося в правильной сфере атомарного микроскопа: участки ДНК растения менялись местами со скоростью, подавлявшей какую бы то ни было надежду на то, что нам, когда-нибудь, удастся, по чистой случайности, избрать правильное направление. Неуловимые, они были вовлечены в какую-то замысловатую круговерть, и с легкостью путали след. При этом, делали они это так умело, что все исследование становилось похожим на преследование солнечного зайчика, отбрасываемого осколком зеркальца, мечущегося по стене безграничной ширины и высоты в результате сотрясения почвы вследствие постоянной вулканической деятельности.
Я был в отчаянии, и самое страшное заключалось в том, что в этой гонке с лидером, вечно меняющим свой лик, собственно преследования-то и не было. Весь небольшой коллектив молодых ученых со мной во главе, с потухшими взглядами и уже без малейшего энтузиазма из последних сил пытались, с заведомым опозданием, доползти до черты, которую лидер пересек гораздо раньше.
Это правда, что попытки разгрызть орешек, который оказался не по зубам, развивают изобретательность. При этом все, почему-то, забывают добавить важную деталь: если скрытый потенциал, а не бессилие правит вашим миром. Тогда есть смысл радикально менять распорядок дня, начинать очередную смену с девяти вечера, или с трех по полуночи, обходиться без перерывов на обед, практиковать рабочие смены не объявленной длинны – до появления первой идеи, которая хоть чего-нибудь стоит.
С приходом понимания, что изобретательность такого рода не в состоянии ничего изменить по той простой причине, что, так называемый, скрытый потенциал не более, чем фикция, крепнет осознание, что мелькало до сих пор лишь крохотными вспышками на пороге между явью и сном: решить эту проблему мне не по силам.
Алгоритм случайного изменения структуры антибиотика, придуманный одним из самых талантливых исследователей моей группы был не более чем реакцией на текучесть подопытной структуры, и разумеется, не мог конкурировать с изобретательность растения, избравшего мимикрию в качестве своего лого.
Усталый и злой, после очередной незадавшейся смены, я пришел домой и не видящими глазами уставился в окно на меняющиеся пейзажи не по-земному разнообразной природы.
Есть не хотелось. Спать не хотелось. И самое страшное заключалось в том, что я, просто-напросто, перестал хотеть то, без чего не только в моем отделе, но и на всем белом свете делать, мне, было нечего. Мне не хотелось жить.
* * *
Я стою перед пустой рамой. Ради нее одной я прихожу сюда, в музей искусств по вторникам так рано, как получится, буквально, с первым астробасом по расписанию. Он делает кольцо в космопорту, откуда можно попасть в музеи других галактик. Но меня интересует лишь один из них – этот.
У этой рамы мне хочется побыть одному. На это можно рассчитывать, если придти к открытию музея. Зуд бессмысленной траты времени на то, без чего, с общепринятой точки зрения, обойтись нельзя, в это время дня еще не проявляет себя во всей своей беспомощной полноте. Это случится немного позже, когда автобусы начнут подвозить ко входу толпы туристов, горящих желанием вычеркнуть из списка достопримечательностей, рекомендованных для гостей города, еще и этот музей.
Но сейчас для туристов еще слишком рано, и никто не мешает мне заниматься тем, ради чего я прихожу сюда каждый раз: вспомнить о будущем, которое затерялось в прошлом так, что и крохотной тропинки к нему не сыскать. Я веду странную беседу с тем, что не случилось,– с прошлым, потерянном навсегда.
По профессии я, что-то вроде ластика. Есть такой в пластиковых пеналах для первоклассников. На случай, если что-то пошло не так: карандашная линия, кривой вензель, грязь от потной ладошки.Я гляжу на знакомую до последней черточки раму и спрашиваю себя, где бы я сейчас был и чтобы делал, если бы Шеннон пришла в голову фантазия воспользоваться совсем другим зеркалом для моей встречи с той, которой уже нет в живых?
Судя по всему, Шеннон искренне хотела видеть рядом с собой, там по ту сторону амальгамы, нас двоих – меня и женщину, которую она называла своей подругой. Женщину, встретить которую мне так и не удалось.
Я никогда не узнаю, по какой причине для путешествия в зазеркалье не чужой для нее пары людей Шеннон выбрала то зеркало, которое было там прежде. Нет, я ничего не имел против именно такого портала в мечту, пока он был доступен для меня. Я и сейчас не имею ничего против уцелевшей от зеркала рамы, тем более что мне, в самом деле, нравится этот, безусловно, вычурный образец прикладного искусства восемнадцатого века, раму для которого позолотил безымянный французский гений.
Меня уже не удивляет, что никто из посетителей не спрашивает, а что здесь было до того, как в стильной раме прописалась нищая пустота, ведь для чего-то была создана эта роскошная рама, так куда же подевалось её содержание? Думаю, все смутно ощущают незримый флёр разразившейся здесь беды, и инстинктивно опасаются стать причиной чьей-то печали.
Я прихожу сюда, в зал Высокого Рококо только по вторникам. Я потратил несколько лет подряд в безуспешных попытках отыскать обещанную мне женщину среди всех остальных посетителей музея.
Для этого я даже составил график посещений музея по дням недели и по часам. Расчет был предельно простым: трижды подряд, чтобы упразднить любую случайность, которая может помешать ей прийти в музей в оптимальное, для нее, время, я приходил в музей в определенный день и в определенный час с единственной целью застать ее у зеркала. Я готов был отдать всё, что меня есть, чтобы только увидеть ее, переступающую через порог входа, доступного лишь нам двоим.
Поначалу, я надеялся застать ее врасплох в случайно выбранный час случайно выбранного дня. Все было тщетно. Лишь значительно позже, годы спустя, я понял: встреча, намеченная в конкретном месте, не может состояться в случайное время и в случайных обстоятельствах. В любом другом месте она просто невозможна. И когда я, наконец, понял это, я перестал ждать ее у зеркала, в расчете на то, что ее присутствие поможет мне стать храбрее, и тогда я смогу позволить себе взять ее за руку и сказать: «Да, это я! Да, я готов сделать первый шаг… Туда… Только давай сначала пожелаем друг другу счастливого пути?..»
Когда я впервые пришел сюда, и увидел, и сразу всё понял, то, разумеется, с самым невинным видом спросил у хранительницы зала причину зияющей пустоты.
– Я вижу вас довольно часто в этом зале. Коллекционируете античную резьбу по дереву с позолотой? Вырезаете сами?
– Нет, для первого вашего предположения у меня, явно, недостаточно материальных средств. Со вторым предположением всё обстоит еще проще: я недостаточно талантлив. Вероятно, меня можно назвать любителем несозданного прекрасного, если вас такое определение не покоробит!
Она рассмеялась, сказала:
– Ну, что вы, мне нравится встречать знакомые лица. Не скрою, когда я вижу людей, которые приходят сюда вновь и вновь, я понимаю, что в моей работе есть какой-то смысл.
– Вот уж поистине нежданное для меня признание!
И впервые за все долгие годы, холодок догадки пробежал по моей спине.
– Вы случайно, не были знакомы с Шеннон Майерз?
– Шен-нон Май-ерз? Простите, но колокольчик моей памяти даже не вздрогнул при упоминании этого имени.
Я ошибся. В самом деле, с чего бы вдруг эта дама могла иметь какое бы то ни было отношения к объекту моих поисков!
Мне не хотелось тратить ее время попусту, и по этой причине я постарался поскорее вернуть ее к теме, которая пробудила наш разговор.
– Так что же, все-таки, случилось с предметом, который, когда-то был окружен этой рамой?
– Вы не поверите, – живо отозвалась она,– если я расскажу вам про это. Только заранее предупреждаю, это совершенно неправдоподобная история, но мне, тем не менее, не хотелось ы, чтобы вы подозревали меня в желании приукрасить в ней что бы то ни было.
– Представляю себе, что я потеряю, если не соглашусь с вами!– охотно отозвался я.
– Внутри этой рамы помещалось зеркало. Вероятно, оно была способно вызывать у зрителей странные чувства, включая и негативные. Иначе я даже не знаю, чем объяснить случившееся.
Сразу скажу вам, что я и прежде обращала внимание на женщину, которая н смогла простить зеркалу своих эмоций, и разбила его. Она и раньше приходила сюда, в этот зал, время от времени. Правда, мне показалось, что, в отличие, скажем, от вас, она никогда не планировала свои посещения заранее.
– Сколько на вид ей было лет?
– Я бы не сказала, что она выглядела чуть-чуть за сорок. Как бы то ни было, я никогда прежде с ней не общалась, что и не удивительно при характере моей работы. Я ведь здесь не только для того, чтобы снабжать посетителей нужной им информацией. Моя основная обязанность – обеспечить безопасность всем без исключения экспонатам музея, стоимость каждого из которых оценивается десятками и, нередко, даже сотнями тысяч долларов.
С другой стороны, можете ли вы верить моим словам? Думаю, что да, тем более что я прикреплена к этому залу в течение вот уже шести лет.
– Что же. все-таки, произошло с зеркалом?
– Выходка, свидетельницей которой я стала,– ах, нет, там был еще и Том, я подала ему условный знак, едва поняла, что это тот самый случай, когда одна я не справлюсь!.. Так вот, то, что мы увидели, не вписывается ни в какие рамки. У меня на глазах такое произошло впервые, и я до сих пор могу только гадать о том, чем это можно объяснить!..
Вобщем, если в нескольких словах, поначалу все было, как всегда, эта женщина приблизилась к зеркалу так близко, как это был возможно,– видите покрытые плюшем бордовые ограничители на расстоянии полутора шагов на полу? – они установлены с единственной целью уменьшать прыть особо ретивых ценителей селфи в музеях от дальнейшего сближения с экспонатом. Кроме них, прямо под зеркалом установлена табличка «Руками не трогать». Честно говоря, до этого происшествия, мне казалось, что это предостережение покрывает всю палитру противоправных возможностей. Теперь я знаю наверняка, что это не так. Причем, она – эта женщина, она ведь даже не коснулась зеркала рукой! Вместо этого она… у меня язык не поворачивается сказать вам, что она сделала!.. Она… пнула зеркало каблуком! При этом, вы можете сказать, что я недостаточно последовательна в своем рассказе, но я, все-таки, скажу об этом: мне показалось, что она вовсе не хотела разбить зеркало. Движение, которое она сделала ногой, я бы назвала попыткой шагнуть внутрь зеркало так, словно оно скрывало некое пространство с совершенно прозрачной толщины.
Когда потом, по окончании смены, в кабинете завотделом безопасности музея, мы все вместе просматривали видеозапись происшедшего – у нас ведь везде включены видеокамеры, и их, собственно никто даже не прячет, – еще одна защитная мера, которую, как мне кажется, каждый потенциальный нарушитель может воспринять, как достаточно серьезный барьер на пути к совершению какого бы то ни было правонарушения,– так вот, буквально всем показалось, что у этой дамы было временное помешательство, поскольку больше ну, просто нечем было объяснить этот ее, так легко и однозначно читаемый жест ногой.
Другими словами, не знаю, как иначе описать ее поступок, но мне показалось, что она просто… шагнула внутрь этого зеркала.
– Мгновенное затемнение сознания? У женщин в ее возрасте бывает нечто подобное, верно? Начало климакса?
– Безусловно, хотя я сама никогда не слышала, что возрастные изменения в женском организме могут вызывать столь необычную реакцию! Если вы хотите знать мое мнение, то я могу только строить догадки о мотивах ее поведения. Общее впечатления, которое сохранилось в моей памяти,– безусловное наличие некой логики в ее действиях при том, что затрудняюсь сказать, что было тому причиной.
– Если это не самая большая музейная тайна, скажите, визит в полицию и ответы на вопросы следователей хоть как-то прояснили для вас происшедшее?
– Мне трудно об этом говорить, но… ничего этого не было.
– Простите?
– Не было ни визита, ни расспросов. Нам объяснили, что заранее намеченные визиты – мой и Тома – отменяются, и когда мы спросили, по какой причине, то нам, нам ответили, что дело… закрыто.
– То есть как?
– Тот же самый вопрос мы задали нашему начальству, но завотделом безопасности сказал нам, чтобы мы не волновались и, последовали его примеру, а именно, постарались забыть об этом деле как можно скорей. Тем более, что оно было закрыто в связи… со смертью обвиняемой.
– Ах, вот как! Но чем же, скажите, была вызвана ее смерть?
– Всё, мне известно, заключается в одном-единственном факте, и суть его в том, что странная эта женщина покончила с собой в тот же вечер, у себя дома, сразу после того, как ее отпустили домой под залог.
– Более чем интересно! Позвольте поблагодарить вас за довольно подробный рассказ. Что ж, подводя итоги, вынужден признать, что мне будет не хватать этого зеркала,– сказал я. «И той, что так нелепо завершила свою жизнь, – добавил, про себя, я. – Жизнь, которая, если верить Шеннон, принадлежала вовсе не ей, а мне одному».
– Хочется верить, что часть вашего визита, последующая за моим рассказом, окажется несколько приятней, и уж, по крайней мере, не такой драматичной.
– Я уверен, что так оно и будет.
На самом деле, в эту минуту, мне было вовсе не до экскурсий, независимо от того, чего бы они не касались. Я затрудняюсь описать состояние, в котором пребывал, узнав, что же произошло в этом зале, после чего рама, являющаяся, сама по себе, предметом искусства, осталась пустой навсегда.
* * *
Я пьян, и только по этой причине у вас есть шанс узнать правду.
Почему мне можно верить? Ну, разумеется, не потому, что я пьян. Просто, мне незачем лгать. В отличие от многих, я ничего не хочу вам продать С другой стороны, даже если вам очень того захочется, вам не удастся мне ничего всучить. Почему? Хороший вопрос, на который у меня есть хороший ответ: спасибо Шеннон Майерз, у меня уже есть все, что мне нужно.
Вот сейчас я налью себе еще глоточек украшающего уголок стола замечательного виски, выпью, крякну, промокну влажные губы бумажной салфеткой и представлюсь. Очередность действий не вызывает у вас вопросов? Вот и прекрасно.Ваше здоровье!
Итак, давайте начнем с самого начала. Позвольте рекомендоваться, Симон Уэйн, по прозвищу Сай. Я – устранитель ошибок, без которых нет прогресса, и которые стоят куда дороже всех наших достижений вместе взятых – «успеха», который рано или поздно всех погубят.
Я с улыбкой слежу за растущим числом почитателей «сплошного» прогресса. Научные открытия, технические изобретения, вехи в развитии технологий искусства. Все, чего нам удалось достичь, на самом деле, это, всего лишь, растущая коллекция индустриальных катастроф, которые, пока что, нам удается нейтрализовать. Или оставить, как есть, для будущих поколений расхлебывать то, что мы не смогли скрыть, невзирая на всю нашу «продвинутость».
Самые рассудительные из нас вкладывают все, что смогли накопить, в несколько акций фармацевтического концерна, который производит болеутоляющие средства. Мы думаем, что сделали прекрасное вложение в наше будущее, потому что на Земле вовеки пребудут боль и желание ее приглушить. При этом, мы даже не в курсе том, что никто, по понятным причинам, не изучал последствия применения лекарственных препаратов, и что если не нашим детям, то уж нашим внукам, точно, придется расплачиваться за дурное наследство в виде раз и навсегда похеренного ДНК.
Мы зарабатываем миллионы на добыче нефти и тратим миллиарды на очищении моря после очередной аварии, повлекшей за собой распоротое брюха очередного танкера или взорванной бурильной установки.
Мы зарабатываем миллиарды благодаря использованию энергии атома, и тратим триллионы на преодоление последствий промышленных катастроф на атомных электростанциях.
Мы тратим еще большие суммы на создание новых типов оружия и отравляющих веществ, и у нас уже не хватает средств, чтобы покрыть издержки затеянных нами войн.
Мы никогда не были в плюсе, а если и были, то исключительно за чужой счет, заставляя других работать вместо себя за гроши, хотя все, что нам,пока что, удалось, на самом деле, так это приблизить крах нашей цивилизации. И чем активней мы пытаемся спастись, тем ближе конец всего и всему, что мы создавали, не жалея себя, идя, с готовностью, на бесчисленные жертвы.
Наша цивилизация – это сброд идиотов, не понимающих, что единственная производная их деятельности – катастрофы и смерть.
На этом фоне я и мои коллеги что-то, вроде белого пятна. И хотя название моей должности – химик-нейтрализатор – на деле, я – спасатель, пытающийся сохранить то немногое, что можно сохранить после очередной катастрофы.
Я Анти-Ромул. Помните отчаянно ироничного «Ромула Великого»? Написал ее то ли, Уренматт, то ли Дурранмат,– человек, зовут которого, кажется Гейдрих, впрочем, я точно нее помню. Это – пьеса, и она посвящена последнему императору Римской империи. Все пришло в негодность, отслужило, от ветхости трещит по швам, обречено на скорую смерть. При таком раскладе, пытаться спасти что-нибудь, значит, на деле, лишь продлить агонию. При том, что самое разумное в таких обстоятельствах, если по минимуму, то не мешать поскорее сломаться тому, что спасению не подлежит, или делать то, чем и занимается Великий Ромул, а именно ускорять приближение конца. И речь идет о конце всем и всему, включая его самого, Ромула, называемого Великим исключительно по иронии судьбы.
Меня удивляет святая простота тех, кто отвечает за нетленный оптимизм наших душ. Я про нашу цензуру: вы только вдумайтесь: такая книга еще не запрещена и значится под грифом «Для свободного доступа». А вот другому автору повезло меньше. Я точно не помню его фамилии,– то ли «Россман», то ли «Гройсман». И зовут его то ли Лин, то ли Глен. Вообще-то я, вроде, еще ничего, но на фамилии памяти уже нет. Старость…Так вот, в отличие от «Ромула Великого» книга «Парадоксы космоса» давным-давно запрещена для выдачи. Теперь, чтобы заполучить ее цифровую копию на вечер, нужно потратить месяц на сбор печатей и подписей в ожидании последней по счету, решающей резолюции, и заранее нельзя быть уверенным, что, в результате всех усилий поперек всех ваших трудов вам повезет увидеть заветную печать по диагонали поперек всех предыдущих: «Разрешит, в качестве исключения».