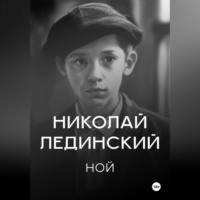Полная версия
Амулет. Книга 1
Не думаю, что отец занимал сколько-нибудь значительный пост, потому что не имел никаких привилегий – ни автомобиля, ни приличной квартиры, ни достойного содержания. Рабочая лошадка, обычный, рядовой опер. Мы и жили, как все обычные советские граждане, если не считать особого отношения соседей к нашей семье – никто не стремился с нами сближаться. Вокруг нас словно бы образовалась невидимая зона отчуждения. Нет, с родителями всегда подчеркнуто вежливо и уважительно здоровались, но при этом никто никогда не заходил по-соседски, как было принято в те времена, чайку попить, поболтать. Грозное название отцовского ведомства защищало нас от вторжения посторонних лучше любых замков и засовов. Даже я, хоть и был еще несмышленым мальцом, ощущал некий ореол, вызванный служебным положением отца. Очевидно, получив соответствующие наставления от своих родителей, дети во дворе побаивались меня, почти никогда не пытались дразнить или обижать, и, уж тем более, никто не проявлял желания поделиться со мной своими секретами.
Отца давно нет на свете, но его старые бумаги пережили его и теперь лежат передо мной, его сыном, будоража память, вызывая из прошлого образы давно ушедших людей и канувших в Лету событий.
Честно говоря, я не ждал от этих бумаг никаких открытий, но чем дольше я вчитывался в пожелтевшие листки, тем больше узнавал неожиданного для себя.
В сущности, все пять папок представляли собой один‑единственный документ – протокол допроса какого-то человека. То и дело мне попадались странные рисунки, непонятные картинки, старые фотографии… Да и сам подозреваемый был необычным. Все в нем вызывало удивление: и его странное имя – Гонсалес Ачамахес, и необычайная, какая-то нездешняя внешность… Я вглядывался в фотографии, приложенные к делу, и недоумевал. Как этот человек, обладающий таким загадочно‑демоническим лицом, напоминающим фрески индейцев племени майя, мог оказаться на многострадальной русской земле? Никогда мне не доводилось встречать среди моих соотечественников таких отточенных, словно вырезанных из камня, черт лица.
Несмотря на необычную личность фигуранта, его допрос показался мне весьма тривиальным для своего времени. Конечно, учитывая иностранное происхождение подследственного, ничего умнее в КГБ не придумали, как обвинить его в работе на зарубежную разведку, причем речь шла и о мексиканской, и об американской, и о японской разведке. Мой отец задавал обвиняемому скучные, все время повторяющиеся вопросы: «С какой целью вас забросили в нашу страну для шпионажа?», «С какой конкретно организацией вы сотрудничаете?», «Информацию какого рода вы уже успели передать своим работодателям?», «Кто оказывал вам помощь на нашей территории?», и так далее, и так далее… Пароли, явки, имена соучастников – все по известному сценарию, многократно описанному в литературе и прессе, когда воспоминания репрессированных хлынули в печать. Естественно, ответы Гонсалеса на все эти вопросы были невразумительными. Чувствовалось, что он испуган, совершенно не понимает, в чем его обвиняют, надеется на то, что происходящее с ним – не более чем недоразумение, и пытается донести эту простую истину до следователя.
Однообразное чтение повторяющихся вопросов и таких же повторяющихся оправданий могло очень скоро мне наскучить, тем более что я предвидел неизбежную развязку. Однако, по мере чтения этих материалов, я все больше проникался сочувствием к незнакомому мне Гонсалесу, и все сильнее испытывал стыд за своего отца, который, хоть и был простым исполнителем, а все же творил неправедное дело. Это свидетельство пусть невольного, но все же преступления, которое совершал мой отец, склоняя невинного человека к тому, чтобы оговорить не только себя, но и других столь же невинных людей, его друзей и знакомых, уже начинало жечь мне руки. Еще немного, и папки полетели бы в корзину, но вдруг характер записей изменился.
Гонсалес внезапно перестал оправдываться – он вообще, если судить по протоколу, замолчал, несмотря на то, что ворох обвинений, выдвигаемых против него следователем, нарастал, как снежный ком. Этот Гонсалес, как я понял, кроме честной и довольно самоотверженной работы в колхозе, ничем другим не занимался, а ему вдруг предъявили «вещественную улику», найденную в его доме при обыске. Этой уликой оказался странный каменный обломок с иероглифами, завернутый в тряпицу. Конечно, привлекать к изучению камня специалистов не стали, никакой экспертизы не проводили, а попросту окрестили непонятную штуковину «американским шпионским шифратором» – ни больше, ни меньше. Будь я на месте допрашиваемого бедолаги, я принялся бы отвергать эту ересь с еще большим пылом, чем до того отвергал пустые обвинения, но… Произошло непонятное – как только с него потребовали объяснений о происхождении улики, Гонсалес полностью отказался от сотрудничества с органами и на любые вопросы отвечал молчанием. Молчал он, судя по всему, и после применения к нему «особых» методов допроса. Это показалось мне странным. Почему он замолчал? Почему даже не пытался объяснить, откуда у него этот камень? Почему ни слова не желал сказать о его назначении? Казалось бы, пустяк, какой-то каменный осколок, и вдруг такое упорство, которое не смогли сломить даже пытками. Что за этим крылось? Невинному человеку нечего скрывать. Похоже, Гонсалес хранил какую-то тайну, разгадка которой как раз и заключалась в найденном у него обломке камня. Так или иначе, но воображение мое разыгралось самым немыслимым образом.
Самой «вещественной улики» в деле, конечно, не оказалось. Осталась лишь фотография камня, испещренного непонятными письменами.
На этом бы мне и закончить чтение, да избавиться от папок, напоминающих о далеко не лучших деяниях моего отца, но тут, хоть я никогда не замечал в себе задатков Пинкертона, меня разобрал неподдельный интерес к этой загадочной истории.
В моей голове рождались десятки вопросов, ни на один из которых я не мог найти ответа. И одним из них был, казалось бы, самый элементарный: почему именно эти папки вдруг оказались не в архиве, не в отцовском служебном кабинете, а здесь, дома, на антресолях? Почему в нарушение всех и всяческих правил и инструкций, он вынес их, да еще и хранил? Эти вопросы не давали мне покоя, и я решил попробовать провести собственное расследование.
Поразмыслив, я решил, что разгадку этой истории, скорее всего, придется искать не в России, а в стране происхождения отцовского фигуранта – Мексике. В материалах дела содержалась информация о том, что Гонсалес, оставив состоятельных родителей и учебу в университете, увлекся теорией Маркса и отправился в Россию «помогать строить коммунистическое общество». Следователь, то бишь мой отец, конечно, не поверил этим его объяснениям. Людям вообще не очень свойственно верить в благородные побуждения своих собратьев, а уж сотрудникам госбезопасности – тем паче. Надо быть уж совсем лишенным революционной бдительности, чтобы поверить в то, что человек может оставить богатых родителей, карьеру, благополучие и примчаться в нищую Россию, одержимый лишь высокими идеями. Так что, конечно же, напрасно надеялся Гонсалес убедить моего отца в искренности своих намерений.
Видимо, в память о родном доме Гонсалес и хранил этот обломок, судя по письменам, начертанным на нем, довольно древний.
Если мое предположение было верным, то самое разумное, что следовало сделать на первом этапе – узнать, что это за письмена такие. Очевидно, что это не испанский, и вообще ни один из современных языков. А где у нас занимаются мертвыми языками? В университете, на филфаке!
«Молодец!» – мысленно похвалил я себя и, вооружившись фотографией с изображением осколка из отцовской папки, отправился в университет.
Да, давненько не бывал я в университетских стенах!.. Вот уж поистине намоленное местечко, не то, что современные, в таком количестве нынче расплодившиеся платные академии, институты, и прочие шарашкины конторы, сулящие осчастливить человека дипломом. Кажется, что здесь все: стены, ступени лестниц, тяжелые двери аудиторий, коридоры хранят память о благородных людях, преданных науке, о действительно великих умах последних двух столетий.
Я немного постоял, вдыхая неповторимый аромат этих священных стен, и, мысленно извинившись перед почтенным заведением за спешку, влился в суетливый поток студентов, профессуры, лаборантов и прочей университетской публики. Никто не обращал на меня никакого внимания, только один раз пожилой подслеповатый профессор зацепил меня за руку рукояткой толстой дубовой трости, как крюком, и отчитал за то, что я не был на его семинаре, перепутав со своим студентом. Я, не вдаваясь в объяснения, тотчас же извинился и пообещал подготовить к следующему семинару объемную научную работу (пускай прогульщик попотеет!). На вопросы же вахтеров я отвечал, что иду в деканат, и мне верили на слово, даже не спросив студенческого билета. А что спрашивать? В нашем универе еще не такие старички, как я, обучаются.
Наконец, мои плутания по коридорам привели меня к двери с надписью «Кафедра испанского языка». Я осторожно постучал – никакого ответа. Легонько толкнув дверь, я обнаружил, что она не заперта, и вошел. В углу небольшого, если не сказать весьма тесного, кабинета, заставленного книжными стеллажами, две дамы беседовали за чашкой кофе, не обратив на меня ни малейшего внимания. Не зная, как обозначить свое присутствие, я кашлянул:
– Извините, пожалуйста… Простите…
Одна из дам повернулась ко мне, явно досадуя на то, что кто-то посмел прервать ход их беседы, и, холодно сверкнув стеклами очков, осведомилась:
– Что вам угодно, молодой человек?
«Молодым человеком» уже давно меня можно было назвать только с большой натяжкой.
– Мне бы хотелось побеседовать с кем-то, кто занимается… как бы это сказать… может быть… Не совсем историей Испании и испаноязычных стран, а как бы… ну, понимаете, – я чувствовал, что выгляжу глупо, как мальчишка, но холодный взгляд, направленный на меня, мешал мне сосредоточиться и толково сформулировать свою просьбу.
На лицах дам немедленно появилось такое выражение, словно я был студентом‑первокурсником, не сдавшим сессию. А чего еще я ждал? Сам виноват – повел себя, как болван! И ведь на самом деле я вовсе не таков. Как-никак давно уже не новичок в бизнесе, и с партнерами умею общаться, и деловые переговоры вести не хуже других. А тут и впрямь оказался мямля мямлей. Воздух университета так на меня действовал, что ли? Посмотрела бы эта надменная дама на меня в моем офисе – там бы перед ней предстал совсем другой человек. В пору ей было бы теряться и мямлить. Так или иначе, но в голове у меня даже шевельнулась малодушная мысль: не раскланяться ли поскорее и поискать помощи в другом месте. Однако, когда это было нужно, я мгновенно умел перестраиваться. И меня вдруг осенило:
– Вообще‑то, – подпустив в голос раскатистых баритональных ноток, проговорил я, – у меня дело. Я к вам из Госбезопасности.
Это сообщение, произнесенное мною словно бы, между прочим, как нечто, не имеющее существенного значения, произвело на женщин магическое действие. Хотя я нагло сочинял, и никакого документа, подтверждающего мои слова, у меня не было, но по изменившимся выражениям их лиц я понял, что ничего такого и не понадобится.
– Проходите, пожалуйста, – совсем другим тоном ответили мне, – мы постараемся помочь.
Такая реакция добавила мне смелости (или наглости?), и совсем уж вальяжным тоном я произнес:
– Видите ли, к нам попало очень любопытное, хотя и давнее дело. Необходимо бы разобраться в этих надписях. Похоже, они относятся не к мексиканской культуре, а к ее более раннему периоду, – выложив фотографию на стол, произнес я очень умную фразу – пусть знают, что я тоже не лыком шит.
Дама аккуратно отставила свою чашку с кофе в сторону, всем своим видом изображая деловитость и готовность к сотрудничеству:
– Ну, давайте, посмотрим, что там у вас…
По неуверенному ее тону и нерешительности, сменившей первое впечатление, произведенное моей «легендой», я понял, что мне, по-видимому, не очень‑то поверили. И теперь, не желая попасть впросак, пытаются на ходу разобраться, кто же я все-таки такой – действительно представитель солидных органов, или просто беспардонный проситель, которого нужно как следует проучить, выставив за дверь. Дама явно колебалась, не зная, как со мной поступить, и рассеянно скользила взглядом по лежащей перед ней фотографии. Наконец, видимо, решив, что в любом случае можно позволить себе высказать неодобрение в связи с неожиданным вторжением, менторским тоном произнесла:
– По совести говоря, молодой человек, вам, как представителю закона, было бы неплохо усвоить, что во всяком деле следует соблюдать определенный порядок, если вы хотите добиться желаемого результата! Если бы вы заранее предупредили нас о своем визите через декана или заведующего кафедрой, вас ожидал бы совсем другой прием. Неужели в вашем ведомстве не учат элементарной вежливости и уважению к работе других людей?
Я покаянно склонил голову, со страхом ожидая момента, когда она, пожелав проверить мои полномочия, попросит предъявить документы или, что тоже было бы весьма прискорбно, потребует подтверждающего звонка из соответствующего отдела ФСБ. Но, видимо, мой вид выражал такое неприкрытое и искреннее раскаяние, что оно вполне удовлетворило суровую даму, и она, наконец, приступила к изучению документа. Вооружившись увеличительным стеклом, дама несколько минут изучала изображение на фотоснимке, после чего, не скрывая облегчения, произнесла:
– Увы, молодой человек, должна вас огорчить – вы пришли не только не вовремя, но и не по адресу! – Все-таки некоторые пожилые леди бывают весьма язвительны. – Если я не ошибаюсь, то этот артефакт имеет прямое отношение к культуре индейцев майя, а, следовательно, обращаться вам нужно не к нам, а на кафедру археологии. Хотя и там вам вряд ли помогут.
– Почему? – недоуменно спросил я.
– Видите ли, – снисходительно пояснила дама, – тут нужен особый, так сказать, неформальный, подход. Культура майя очень древняя, мало изучена… К тому же, сейчас почти не осталось специалистов, даже среди археологов, которые могли бы, прикасаясь к древним артефактам, действительно погружаться в историю, а не только рассуждать о ней. Вы понимаете, что я имею в виду?
Я озадаченно покачал головой.
– Как бы вам объяснить это… К примеру, вы нашли предметы, относящиеся к древней истории, держите их в руках, изучили их состав, способ, которым они были произведены, их назначение, правильно датировали их происхождение. Сможете ли вы, обладая всеми этими знаниями, понять ход мыслей человека, который ими пользовался или создал их, достучаться до него сквозь столетия, почувствовать, что волновало и тревожило его, чем он жил, во что верил?
– Не знаю… – неуверенно ответил я. – Если это предметы культа, то, возможно…
– В том‑то и дело, что нет, невозможно! Сухой анализ, сопоставление фактов и эпох, к сожалению, не могут дать полного представления о том главном, чем должна заниматься история – о человеке. Наша археология анализирует черепки, осколки древних ваз, бусы, наконечники, но не душу! Любой студент‑первокурсник предоставит вам сколько угодно сведений о ремеслах, принципах построения жилищ, верованиях наших предков, но спросите его, как он себе представляет их бытие, что может сказать об их духовной жизни – наверняка не получите ответа. Нужно полностью погрузиться в изучаемую эпоху или культуру, чтобы понять ее по-настоящему. Увы, таких самоотверженных, искренне преданных науке ученых почти не осталось… Все норовят не понять историю, а подогнать ее под свои теоретические выкладки, оттого и получаются нынешние исследования древности отстраненными и поверхностными.
Я умоляюще посмотрел на даму:
– Но что же мне тогда делать? Помогите, ради Бога! Будьте моей Ариадной в этом лабиринте – самому мне не выпутаться.
Моя отчаянная лесть, как ни странно, имела успех. Мадам оттаяла и благосклонно взглянула на меня:
– Пожалуй, я знаю человека, который мог бы вам помочь. Был у нас в свое время один старый чудак, очень странный, но в интересующем вас вопросе – просто гений. В прежние времена его невозможно было застать в городе, он не вылезал из экспедиций годами. Основной темой его исследований как раз была история майя, ему принадлежат десятки статей по этой тематике, кажется, есть даже одна монография. – Она подошла к громоздкому шкафу, провела пальцем по корешкам книг и, вынув одну из них, прочла имя автора: – Иван Петрович Логинов! Да… Незаурядный был человек. Вот уж кто, действительно, отдавался любимому делу без остатка. Просто влюблен был в своих майя! Как-то он так интересно выражался?.. – дама чуть наморщила лоб, припоминая: – А, вот: «Если человечество идет лишь вперед, это вовсе не означает, что оно приближается к своей цели. Иногда стоит повернуть назад, чтобы найти истинные сокровища духа. Изучите древнюю историю майя, и вы поймете, для чего пришли в этот мир…», – она помолчала с минуту, погруженная в воспоминания. – Да… Только вот не знаю, молодой человек, – вскинув на меня глаза, обмолвилась она, – жив ли еще Иван Петрович? У нас, во всяком случае, он давненько не появлялся.
Это последнее замечание меня огорчило:
– Я от всей души надеюсь, что он находится в добром здравии, – пробормотал я. – Но как мне с ним связаться?
Тяжело вздохнув, мадам с сожалением посмотрела на свою недопитую чашку, в которой остывал кофе, коротко бросила: «Подождите меня здесь», и вышла. В пустынном гулком коридоре процокали ее высокие каблуки. Вскоре она вновь появилась и положила передо мной листок бумаги с адресом.
– Вот, пожалуйста. Можете попытаться связаться. Больше ничем помочь не могу. И, будьте так любезны, передайте своим коллегам, чтобы впредь не отвлекали людей от дела по пустякам. Лучше бы с преступностью боролись! Ведь даже рядом с нашим университетом вечно какие-то криминальные элементы вертятся! Порядочному человеку выйти невозможно!
На ее неожиданную гневную тираду в адрес правоохранительных органов я ответил так, что любой милиционер мог бы мною гордиться:
– Конечно. Обязательно. Мы всегда готовы стоять на страже интересов наших законопослушных граждан.
«А их‑то как раз, этих самых законопослушных граждан, в нашей стране теперь днем с огнем не сыщешь!» – подумал я про себя.
Что ни говори, а за пятнадцать последних лет изрядно позаботившиеся о своих интересах чиновники создали такую систему государственного управления, при которой любой человек – от предпринимателя до простой домохозяйки, просто априори является преступником. Государственные законы существуют лишь на бумаге. Они настолько нежизнеспособны, настолько не отвечают современному положению дел в обществе, что их нарушает даже само государство – на глазах у всех. А когда закон нарушается его создателем, чего же можно требовать от простых людей, какого законопослушания?
Ложь, фальшь и воровство на всех уровнях власти порождают и соответствующее к ней отношение. Никто не хочет быть обманутым, поэтому обманывает сам. Люди, видя беспардонность и беспринципность власти, пытаясь удержаться на плаву, просто вынуждены поступать так же, как поступают с ними – то есть воровать, лгать и нарушать закон.
Криминальное государство, в том виде, в каком оно существует у нас, не может никого защитить от криминальных элементов. Но стоит ли рассуждать на эту невеселую тему с милой ученой дамой из университета?
Я поблагодарил ее от всей души, церемонно раскланялся, и удалился.
Глава третья. Григорий.
Несмотря на данное себе накануне обещание не читать газеты и постараться пореже смотреть телевизор, я вновь сидел, развалившись на диване, и смотрел очередную передачу. Щелкая пультом, переходя с канала на канал, я вновь убедился, что и сегодня вечером, как и во все другие вечера, найти программу, которая хоть что-нибудь могла сказать уму или сердцу, практически невозможно.
И вот что еще удивительно: стоило мне услышать с экрана телевизора какого-нибудь политолога или комментатора, как я тут же мысленно вступал с ним в спор, в запале произносил длинные разоблачительные монологи, одним словом, тратил массу нервной энергии – и ради чего спрашивается? Потом я всякий раз давал себе слово сохранять перед экраном полное равнодушие, и даже самые отъявленные глупости и несуразности не принимать близко к сердцу. Иначе – себе дороже. И все-таки едва я усаживался на диван перед телевизором, я опять снова и снова попадался на ту же самую удочку.
Ведь уму непостижимо, сколько обрушивается на нас с экрана сенсационных разоблачений, скандалов, политических дрязг! И что толку? Вот, к примеру, оказалось, что генеральный прокурор страны развлекался неподобающим образом с девушками легкого поведения… То есть, пардон, «человек, похожий на прокурора». Ну и что? Эту запись, которая, между прочим, является ничем иным, как вторжением в частную жизнь, показали по всем каналам, прокурор подал в отставку. Каков итог? Ради чего шумиха? Никакого расследования не проводилось, все успокоились на том, что человек ушел с поста. А если это был вовсе не он? А если он стал жертвой хорошо спланированной операции по устранению неудобного прокурора с помощью фальшивой видеосъемки? На все эти вопросы нет ответа, и никогда не будет.
Разоблачили сталинский культ личности, с пафосом раструбили о миллионах репрессированных, о загубленных жизнях, о преступлениях сталинского режима, покаянии и прочем. Где процесс по этим преступлениям, я спрашиваю?! Да, Сталин мертв, но живы те, чьи подписи стоят под приказами о расстрелах. Где эти люди? Когда и кто осудит их? А если не осудит, тогда в чем заключается смысл нашей свободы слова, да и вообще свободы в стране? Свобода знать, что тебя унизили, уничтожили твоих родителей, разворовали твою страну? Свобода знать все это – но так и не увидеть торжества справедливости, не иметь возможности взглянуть в глаза тем, кто все это вершил. «А нужна ли нам такая свобода? – с пафосом спрашивал я себя. – Ведь это лишь усугубляет унижение, приумножает боль».
Нищим шахтерам и замерзающим в своих домах пенсионерам, которым отключили отопление за неуплату, демонстрируют разоблачение Чубайса. Но если он виноват – покажите, как он наказан, или заставьте его исправить ситуацию! Нет, все остается по-прежнему – люди мерзнут, Чубайс управляет энергетикой.
Рассказывают, сколько миллиардов вывезли из страны нажившиеся на развале Союза олигархи, которые первыми успели к дележке оставшегося бесхозным пирога – растащили нефтяной и энергетический комплекс, крупнейшие и самые перспективные заводы, получили сверхприбыли и поехали скупать по всему миру недвижимость, курорты и футбольные клубы. Так покажите людям, как вы планируете вернуть эти деньги! Ничего… Только пустая болтовня, напоминающая вопли обезьян в джунглях.
И кому нужна такая свобода слова, при которой нет свободы действия? Из-за этой пустой болтовни погиб Советский Союз. Если не остановить ее поток сейчас и не начать действовать, может погибнуть и Россия.
Правда, когда я отключаюсь от смысла того, что произносится с экрана, то мелькание кадров и монотонные голоса дикторов действуют на меня весьма благотворно и успокаивающе. Вот и теперь я постепенно начал впадать в дрему, но внезапно дернулся, словно меня толкнули. Сон неожиданно исчез. Мне опять вспомнился отец и его талисман – осколок древней, давно отшумевшей и канувшей в небытие жизни. Неудержимо захотелось вновь взять его в руки и еще раз внимательно рассмотреть. Я ведь так и не понял, чем он был тогда, в древности: монетой, женским украшением, знаком на одежде воина, а может, частью одеяния жреца, амулетом?
«Все-таки бестолковый и неорганизованный я человек. Что-то делаю не так, вечно путаю главное со второстепенным, важное с несущественным, – подумал я. – Вот ведь и отец, наверно, неспроста так берег эту вещицу и оставил ее мне. А я, неблагодарный, убрал ее с глаз долой, да и успокоился».
Я поднялся с дивана, прошел к письменному столу и достал коробку из-под монпансье. Из окна на стол пролился лунный свет, осколок тускло блеснул. Я положил его на ладонь. Странно, очень странно: прикосновение было теплым, предмет этот явно не походил на холодный камень, которым первоначально казался. Я почувствовал исходящую от него легкую, едва заметную пульсацию. С каждой минутой росло ощущение, что я держу в руках нечто живое, и это «нечто» волновало, внушало мне беспокойство, обволакивало волнами странной энергии, которую я начал ощущать почти физически. Казалось, еще минута, и я услышу его музыку, его голос…
Пронзительный телефонный звонок вывел меня из состояния транса, в котором я так неожиданно оказался. Я неуверенно поднял трубку и услышал сухой, шуршащий, словно бумага, голос:
– Григорий Александрович?
– Да, я слушаю вас, говорите… Объясните, наконец, кто вы, и что от меня хотите?
Голос, проигнорировав мой вопрос, прошуршал:
– Как вы себя чувствуете?