
Полная версия
Мешок с шариками

Жозеф Жоффо
Мешок с шариками
Посвящается моей семье.
Я хочу поблагодарить моего друга, писателя Клода Клоца, который любезно согласился прочесть мою рукопись и поправить её рукой мастера.
Joseph Joffo
UN SAC DE BILLES
© 1973 by Editions JC Lattès Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates
© Михайлова О.А., перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
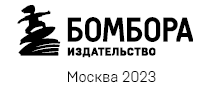
Пролог
Эта книга – не исторический труд.
Я хотел рассказать о том, что пережил в оккупации, так, как это запомнилось мне десятилетнему.
Прошло уже тридцать лет. Одни воспоминания уходят, другие слегка искажаются, такова уж наша память. Но главное – во всей его подлинности, трогательности, комичности и ужасе – здесь, на этих страницах.
Чтобы не задеть ничьи чувства, я изменил имена многих лиц, о которых пойдёт речь в этой истории, – истории двух детей, столкнувшихся с миром жестокости и абсурда, в котором тем не менее нежданно-негаданно встречались милосердие и помощь.
Глава I
Шарик перекатывается у меня между пальцев в глубине кармана.
Это мой любимый, я всегда пускаю его в ход последним. Самое смешное, что не найти шарик неказистее этого. Никакого сравнения с агатовыми красавцами или с восхитительными металлическими шариками с витрины папаши Рубена на углу улицы Рамэ. Мой сделан из глины; глазурь кое-где уже слезла и пошла трещинками, образуя причудливые рисунки, и теперь он выглядит как крохотный школьный глобус.
Я им очень дорожу, мне нравится носить с собой Землю со всеми её горами и морями. Я великан, и в кармане у меня целая вселенная.
– Долго ты ещё будешь чухаться?
Морис ждёт, сидя на тротуаре прямо перед мясной лавкой. Носки у него, как обычно, собираются гармошкой, за что папа зовёт его аккордеонистом.
У его ног возвышается пирамидка из шариков: три сложены треугольником, четвёртый сверху.
На пороге сидит бабушка Эпштейн и смотрит на нас. Это дряхлая, покрытая глубокими морщинами болгаринка. Каким-то чудом лицо её оставалось обветренно-смуглым, как будто бы она всё ещё кочевала в бескрайних балканских степях, а не проводила свои дни на соломенном стуле в квартале Порт де Клинянкур. В ней чувствовалось живое биение далёкой родины, чьи краски не желали тускнеть даже под серым парижским небом.
Бабушка Эпштейн сидит тут каждый день, улыбаясь детям, идущим из школы. Говорят, она прошла всю Европу пешком, спасаясь от погромов, пока не очутилась в XVIII округе, на окраине Парижа, среди таких же беженцев с Востока: русских, румын, чехов, товарищей Троцкого, интеллектуалов, ремесленников. Она живёт здесь уже больше двадцати лет; хотя медный загар и не сходит с её лица, воспоминания, конечно, должны были поблёкнуть.
Она смеётся, глядя на то, как я переминаюсь с ноги на ногу, и сжимает в руках истёртую саржу своего передника, такого же чёрного, как и моя школьная форма[1]; в то время все школьники ходили в чёрном. Детство в трауре. В 1941-м это было как предзнаменование.
– Чёрт, да сколько ты будешь копаться?
Ещё бы мне не копаться! Хорошо Морису говорить, а я сыграл уже семь раз и всё ему продул. Добавьте это к шарикам, которые он выиграл на перемене, и станет понятно, отчего карманы у него так раздулись. Шаров столько, что он еле ноги передвигает. А у меня остался только один, заветный.
– Мне тут до утра, что ли, сопли морозить? – злится Морис.
Решаюсь.
Шарик подрагивает в моей ладони, я бросаю, не зажмуриваясь. Мимо.
Так я и знал. Пора идти домой. Мясная лавка Гольденберга странно выглядит, словно я смотрю на неё из-за стекла аквариума, а дома на улице Маркаде так и расплываются у меня перед глазами.
Я смотрю влево, так как Морис идёт справа от меня; так он не может видеть, что я плачу.
– Хорош реветь, – говорит он.
– Я не реву.
– Когда ты смотришь в другую сторону, я точно знаю, что ревёшь.
Утираю слёзы рукавом. Ничего не отвечаю и ускоряю шаг. Нам влетит, мы уже давно должны были вернуться.
Вот и улица Клинянкур и наш дом. Крупные буквы на фасаде выведены так же красиво и чисто, как пишет учительница в подготовительном классе: «Парикмахерская Жоффо».
Морис толкает меня локтем в бок.
– Ну и умора с тобой. На.
Я смотрю на него и забираю шарик, который он мне протягивает.
Брат – это тот, кто вернёт тебе твой последний проигранный ему шарик.
Крохотная планета снова стала моей; завтра во дворе школы этот шарик добудет мне кучу других. Может быть, даже Мориса переиграю. Если он на два года старше, это не значит, что он тут главный.
В конце концов, мне уже целых десять лет.
Помню, как мы входим в парикмахерскую и меня со всех сторон окутывают запахи. Разумеется, в детстве каждого человека есть свои особые запахи, но мне достались все ароматы, какие можно вообразить, вся гамма, от лаванды до фиалки: этажерки у нас так и ломились от всевозможных флаконов. Неизменная нота – запах свежих полотенец. И всё это сопровождалось лёгким пощёлкиванием ножниц, моей первой музыкой.
Когда мы входим, в салоне наплыв, ни одного свободного кресла. Дювалье, как обычно, дёргает меня за ухо, когда я прохожу мимо. Он практически жил у нас в парикмахерской. Видимо, ему нравилась и обстановка, и возможность побыть на людях. Оно и понятно: пожилой вдовец, один-одинёшенек в своей трёхкомнатной квартире под крышей на улице Симар… хоть волком вой. Вот он и спускался к евреям поболтать немного и сидел до самого вечера, всегда на одном и том же месте, рядом с вешалкой для одежды. Когда уходил последний клиент, он вставал и пересаживался в кресло, говоря: «Мне только побриться».
Брил его папа. Папа с его чудесными историями, любимец всей улицы, сгинувший в газовой камере.
Мы сделали уроки. В то время часов у меня не было, но я вряд ли потратил на это больше сорока пяти секунд. Я всегда всё знал наперёд, без зубрёжки. Мы немного потянули время в своей комнате, чтобы мама и братья не засадили нас снова за книги, а потом пошли вниз.
Альбер был по уши занят высоким типом с вьющимися волосами, который пожелал гладкую американскую стрижку, но всё-таки обернулся.
– Уже сделали?
Папа тоже поднял глаза, но мы воспользовались тем, что он рассчитывался с клиентом у кассы, и выскочили на улицу.
Славное было время.
Порт де Клинянкур в тысяча девятьсот сорок первом был раем для ребятни. Меня всегда изумляют современные «пространства для детей», о которых говорят архитекторы, все эти песочницы, тобогганы, качели и многие другие штуки, которые теперь полагается иметь в новых скверах и домах. Созданные людьми с ворохом дипломов по детской психологии, эти площадки бесполезны. Детям там неинтересно.
И я спрашиваю себя, не лучше ли было бы всем этим экспертам по детским потребностям задуматься, почему в то время нам так нравилось в своём уголке Парижа. Серые улицы, огни магазинов, полоски неба над крышами в вышине; длинные тротуары, забитые мусорными баками, – ну как на них было не взобраться, как не спрятаться в подъездах домов, а чего стоили дверные звонки! В общем, у нас было всё: неугомонные консьержи, конные повозки, продавщица цветов, летние террасы кафе. Бесконечные улицы сплетались в гигантский, неохватный лабиринт. И мы шли на разведку.
Помню, как однажды, свернув с какой-то грязной улочки, мы обнаружили реку, которая текла прямо у нас под ногами, и почувствовали себя первооткрывателями. Гораздо позже я узнал, что это был канал Урк. Мы долго глазели на плывущие по воде пятна солярки и пробки от бутылок и вернулись домой затемно.
– Куда пойдём?
Этот вопрос почти всегда задаёт Морис.
Когда я собираюсь ответить, мой взгляд скользит вверх по улице.
И я вижу их.
Надо сказать, их трудно было не заметить. Двое рослых, перетянутых портупеями мужчин в чёрном. Высокие сапоги блестят так, словно их начищали дни напролёт.
Морис оборачивается.
– СС, – тихо говорит он.
Мы смотрим, как они неспешно идут, медленно чеканя шаг, будто на огромном плацу, посреди труб и барабанов.
– Спорим, они идут стричься?
Думаю, что идея пришла нам в головы в одну и ту же минуту.
Мы становимся вплотную к витрине, плечом к плечу, как сиамские близнецы, и немцы входят.
Тогда мы и начинаем смеяться.
Своими телами мы закрываем маленькое объявление, приклеенное на стекле. Чёрные буквы на жёлтом фоне складываются в слова: Yiddish Gescheft[2].
В салоне, в самой напряжённой тишине, которая когда-либо царила в парикмахерской, двое эсэсовцев с нашивками «Мёртвая голова» терпеливо ждут, сидя бок о бок с клиентами-евреями, пока за их шевелюры примутся мой отец-еврей или мои братья-евреи.
А двое маленьких евреев снаружи корчатся от смеха.
Глава II
Анри смахивает волоски с ворота Биби Коэна, и тот идёт к кассе. Мы с Морисом прячемся прямо за ней, чтобы ничего не упустить. У меня немного сосёт под ложечкой: не слишком ли далеко мы зашли? Заманить этих двух молодчиков прямо в сердце еврейского квартала было, пожалуй, немного чересчур.
Анри обернулся к немцу.
– Мсье, прошу вас.
Эсэсовец встал и устроился в кресле, положив фуражку на колени. Он смотрел на себя в зеркало безо всякого интереса, даже, кажется, с некоторым отвращением.
– Сделать покороче?
– Да, и на прямой пробор, пожалуйста.
Я на минуту теряю дар речи в своём укрытии за кассой. Немец, говорящий по-французски! И гораздо чище, чем многие наши соседи.
Я не отрываю от него глаз. В небольшой, отполированной до блеска кобуре виден револьвер, на рукоятке которого болтается кольцо для шнура, точь-в-точь как у моего игрушечного пистолета. Очень скоро он поймёт, куда попал, с воплями выхватит его и всех прикончит, даже маму, которая хлопочет в кухне наверху и не знает, что внизу в парикмахерской у нас сидят двое нацистов.
Дювалье продолжает читать газету в своём углу. Рядом с ним сидит Кремьё, сосед, который служит в страховой фирме и раз в месяц приводит сына на стрижку. Сына я знаю, мы ходим в одну школу и играем на перемене. Он застыл, и хоть рост у него небольшой, кажется, что сейчас он хочет стать ещё меньше. Уже не помню, кто ещё тогда был в салоне, хотя я всех их, конечно, прекрасно знал. Мне становилось всё страшнее, и я плохо соображал. Помню одно: первым в атаку пошёл Альбер. Спрыснув жёсткие волосы своего клиента лосьоном, он сказал:
– Невесёлая штука война, а?
Эсэсовец так и подскочил – видимо, в первый раз с ним заговорил кто-то из французов. Он тут же воспользовался таким случаем.
– Куда там, совсем не весёлая…
И беседа потекла, постепенно захватывая присутствующих и переходя на дружеский тон. Немец переводил товарищу, не понимавшему по-французски, и тот одобряюще кивал головой, с которой пытался совладать Анри. Нечего было и думать о том, чтобы добавить парочку шрамов этому представителю высшей германской расы. Положение и так было достаточно щекотливым.
Я видел, как папа тщательно работает, высунув кончик языка, и ягодицы у меня уже горели в ожидании порки, которая, конечно, ждёт нас, едва только эти типы ступят за порог. Альбер примется за меня, Анри – за Мориса, и они не остановятся, пока у них руки не заболят.
– Прошу, проходите.
За второго берётся папа.
Несмотря на свой испуг, я не смог удержаться от смеха, когда пришёл Самюэль.
Он часто заскакивал вечером перекинуться парой слов по-приятельски. Самюэль торговал на блошином рынке в двух шагах от нас, в основном механическими часами, но и просто всем, чем придётся; мы с Морисом частенько копались на его развале.
Он вошёл, сияя.
– Всем привет.
Резким взмахом руки папа расправил полотенце и набросил его на шею своего клиента. Этого короткого мига Самюэлю было достаточно, чтобы рассмотреть военную форму.
Глаза у него стали круглыми, как мои шарики для игры, только раза в три больше.
– Та-та-та, – пробормотал он, – та-та-та…
– Да уж, – сказал Альбер, – много народу сегодня.
Самюэль пригладил усы.
– Не беда, – сказал он, – зайду попозже.
– Конечно, моё почтение супруге.
Но Самюэль продолжал стоять столбом, тараща глаза на невиданных посетителей.
– Непременно передам, – пробормотал он, – непременно, непременно.
Он ещё несколько секунд постоял, не в силах сдвинуться с места, а затем тихонечко удалился, ступая так, словно шёл по минному полю.
Примерно через тридцать секунд весь квартал, от улицы Эжена Сю до самого Сент-Уана, включая подсобки всех еврейских ресторанчиков и кладовки всех кошерных мясных лавок, был в курсе, что Жоффо-старший стал официальным парикмахером вермахта.
Это была сенсация века.
Разговор в салоне становился всё более задушевным, чему немало способствовал папа.
Эсэсовец заметил в зеркале наши макушки.
– Ваши мальчишки?
Папа улыбнулся.
– Да, моя шпана.
Эсэсовец растроганно покачал головой. Просто не верится, что в 1941-м СС могли умиляться при виде маленьких евреев.
– Да, – произнёс он, – гнусная вещь война. А виноваты во всём евреи.
Папа и бровью не повёл, продолжая орудовать ножницами, а затем взял в руки электрическую машинку.
– Вы думаете?
Немец закивал с видом абсолютной убеждённости.
– Совершенно уверен в этом.
Папа в последний раз прошёлся машинкой по его вискам, зажмурив один глаз, как делают художники. Лёгким движением убрал полотенце, поднёс зеркало. Эсэсовец довольно улыбнулся.
– Превосходно, спасибо.
Чтобы рассчитать их, папа встал за кассу. Стоя вплотную к нему, я видел высоко над собой его широко улыбающееся лицо.
Солдаты надели свои фуражки.
– Вам всё понравилось, вы довольны?
– О да, всё замечательно.
– Так вот, прежде чем вы уйдёте, – сказал папа, – должен уведомить вас, что все, кого вы тут видите, – евреи.
В молодости папа немного играл в театре, и по вечерам, рассказывая нам свои истории, он сопровождал их выразительными жестами и мимикой в духе системы Станиславского.
В эту минуту ни один актёр не мог бы стоять на сцене с большим величием, чем глава семейства Жоффо за своим прилавком.
Время в салоне остановилось. Первым встал Кремьё, он сжимал руку сына, и тот тоже поднялся с места. Остальные последовали за ними.
Дювалье не произнёс ни слова. Франсуа Дювалье, сын Жака Дювалье и Ноэми Машёгран, практикующий католик, некогда крещённый в церкви Сент-Эсташ, отложил газету, спрятал трубку в карман и тоже встал. Теперь мы все стояли.
Эсэсовец не дрогнул, только губы у него будто бы стали ещё тоньше.
– Я говорил о богатых евреях.
Монеты звякнули о стеклянную панель прилавка, послышался скрип сапог.
Они должны были уже дойти до конца улицы, а мы всё стояли и стояли, замерев от ужаса, и мне на мгновение померещилось, что какая-то злая фея из сказки обратила нас в камень на веки вечные.
Когда чары рассеялись и все медленно вернулись на свои места, я понял, что нас не накажут.
Прежде чем снова взяться за ножницы, папа потрепал нас с братом по голове, и я крепко зажмурился, чтобы Морис не увидел, как я реву второй раз за день.
– Угомонитесь, пожалуйста!
Это мама кричит через перегородку. Как обычно, она заходит к нам перед сном проверить, почищены ли зубы, уши и ногти. Слегка поправляет подушки, подтыкает одеяла, целует нас и выходит из комнаты. И, как обычно, не успевает за ней закрыться дверь, как моя подушка летит в темноте прямиком в Мориса, который ругается последними словами.
Мы часто дерёмся, особенно по вечерам, когда сильно не пошумишь. Начинаю чаще всего я.
Напряжённо ловлю каждый звук. Справа зашуршали простыни – значит, Морис встал с кровати, я узнаю этот протяжный скрип пружины. Сейчас набросится. Мои тоненькие мышцы напряжены, я задыхаюсь от страха и радостного предвкушения, готовясь к яростной схватке…
В комнате вспыхивает свет.
Ослеплённый, Морис бросается в кровать, а я пытаюсь изо всех сил сделать вид, что крепко сплю.
Это папа.
Бессмысленно притворяться, нам никогда не удаётся его провести.
– Продолжение истории, – говорит он.
Восторг! Ничего лучше и вообразить себе нельзя.
Эти папины рассказы остаются для меня одним из лучших воспоминаний о детстве, как бы рано оно для меня ни кончилось. Иногда по вечерам он входил, усаживался на кровать ко мне или к Морису и принимался рассказывать истории о дедушке.
Все дети любят слушать истории, но для меня они имели особенное значение. Главным героем в них был мой дед, его дагерротип в овальной рамке висел в салоне парикмахерской. От времени бумага выцвела, и его суровое усатое лицо стало блёкло-розовым, будто детская пелёнка. Под ладно сидящей одеждой угадывалась мощная мускулатура, ещё более заметная из-за неестественной позы, на которой, должно быть, настоял фотограф. Дед опирался на спинку стула, казавшуюся до смешного хлипкой, готовой в любую минуту рассыпаться в прах под рукой колосса.
Папины рассказы слились в моей памяти в одно бесконечное приключение, эпизоды которого следовали один за другим, как части складного стола, на фоне занесённых снегом просторов и улиц, петляющих в городах с золочёными куполами.
У деда было двенадцать сыновей, он был зажиточным и щедрым человеком, которого знал и уважал весь Елизаветград, большое поселение к югу от Одессы, в российской части Бессарабии.
Он жил счастливо и мирно правил своим многочисленным семейством до того дня, пока не начались погромы.
Всё свое детство я слушал на ночь истории о погромах. Я видел как наяву приклады ружей, которыми колотят в двери и выбивают стекла, бегущих в страхе крестьян, языки пламени на бревенчатых стенах изб, яростные удары сабель, пар, валящий от мчащихся лошадей, блики на шпорах и над всем этим действом, в клубах дыма, – гигантскую фигуру моего предка Якова Жоффо.
Мой дед был не из тех, кто бездействует, когда его друзей убивают.
По вечерам он снимал свой цветастый халат, спускался в погреб и в тусклом свете лампы одевался, как простой мужик. Поплевав на ладони, он сначала проводил ими по выложенной камнем стене, а потом по лицу. И так, измазавшись грязью и копотью, дед шёл к казармам и притонам, где бывали солдаты. Он поджидал в темноте группу в три-четыре человека, разбивал им головы о стены, неспешно и без гнева, с чистой совестью праведника, и возвращался домой довольный, напевая еврейский мотив.
Затем погромы участились; дед понял, что его карательные экспедиции не дают результата, и с сожалением отказался от них. Он созвал всех своих и объявил, что, как ни печально, ему не под силу в одиночку прикончить три батальона, которые царь отправляет в их края.
Это значило, что нужно спасаться, и без промедления.
Далее следовал красочный рассказ о том, как семейство деда шло через всю Европу по дорогам Румынии, Венгрии, Германии, где ненастные ночи сменялись кутежами, а смех соседствовал с горем и смертью.
В этот вечер мы слушали, как и всегда, зачарованно раскрыв рты. То обстоятельство, что Морису было уже двенадцать, ничего не меняло.
На обоях плясали тени от лампы, и руки папы двигались где-то под потолком. Перед моим взором проплывали лица беглецов, перепуганных женщин и дрожащих детей с затуманенными от страха глазами. Они покидали мрачные, залитые дождями города с причудливыми зданиями, пробирались страшными извилистыми тропами, шли по замерзшим степям, а затем, в один прекрасный день, достигали последнего рубежа. Тучи рассеивались, и весь табор оказывался в прелестной равнине, где мягко светило солнце, пели птицы, росли деревья, колосились поля и виднелась деревенька с колокольней. У дверей белёных домиков с черепичными крышами мирно сидели благостные старушки с шиньонами.
На самом высоком здании было написано: «Свобода – Равенство – Братство». И тогда скитальцы, шедшие пешком, бросали наземь свои котомки, а те, кто был в повозках, – натягивали вожжи. В их глазах больше не было страха, ведь они понимали, что наконец пришли. Они были во Франции.
Я всегда считал, что в любви французов к своей стране нет ничего особенного, настолько она естественна и понятна. Но я точно знаю, что никто не любил Францию больше, чем папа, родившийся за восемь тысяч километров отсюда.
Подобно детям школьных учителей в то время, когда светское образование во Франции впервые стало обязательным и доступным для всех, мне приходилось слушать бесконечные наставления, где папа вперемешку толковал о нравственности, гражданском самосознании и любви к родине.
Он никогда не мог пройти мимо мэрии XIX округа без того, чтобы не сжать слегка мою руку и, указывая подбородком на буквы на фронтоне, спросить:
– Знаешь, что значат эти слова?
Я рано научился читать, и в пять лет я уже мог прочесть эти три слова.
– Да, Жозеф, именно так. И покуда эти слова остаются там, нас в этой стране никто не тронет.
И так действительно было – до какого-то момента. Однажды во время ужина, когда немцы уже заняли Францию, мама спросила:
– Ты не думаешь, что теперь, когда они тут, у нас будут проблемы?
Мы были наслышаны о том, какие порядки Гитлер завёл в Германии, Австрии, Чехословакии и Польше, где расовая политика быстро набирала обороты. Мама была русской и сама когда-то осталась на свободе лишь благодаря поддельным документам. Пройдя через такое, она не могла разделять прекраснодушного оптимизма папы.
Я мыл, а Морис вытирал тарелки. Альбер и Анри прибирались в салоне, через перегородку мы слышали, как они смеются.
Эффектным движением руки, словно актёр из труппы «Комеди-Франсез», папа дал понять, что бояться нечего.
– Здесь, во Франции, такого не случится. Никогда.
Но с некоторых пор всё труднее было верить в это. Первые сомнения возникли, когда ввели удостоверения личности, а особенно сильным ударом стало жёлтое объявление, приклеенное к нашей витрине какими-то типами в тренчах. Я запомнил того, что был повыше, с усами и беретом на голове. Не говоря ни слова, они наклеили объявление и тут же смылись, словно преступники.
– Спокойной ночи, дети.
Дверь закрылась, в комнате стало темно. Нам тепло в наших постелях, голоса глухо доносятся до нас, а потом стихают. Это самая обычная ночь, ночь 1941 года.
Глава III
– Твоя очередь, Жо.
Подхожу со своей курткой в руках. Восемь утра, на улице ещё совершенно темно. Мама сидит за столом с чёрной ниткой и наперстком на пальце. Её руки дрожат, она улыбается одними губами. Поворачиваю голову. Морис сидит неподвижно. Он приглаживает ладонью жёлтую звезду, пришитую крупными стежками к левому лацкану:
ЕВРЕЙ
Он смотрит на меня.
– Не волнуйся, и тебе медаль дадут.
Естественно, и мне дадут, и всему кварталу дадут. Этим утром, когда люди выйдут на улицу, они увидят, что посреди зимы вдруг началась весна и всё зацвело: каждый будет со своим громадным первоцветом в петлице.
С этой штукой на груди нам мало что остаётся делать вне дома: в кино больше нельзя, в поезда нельзя, а может, скоро нельзя будет играть в шарики и ходить в школу? Это был бы не такой уж и плохой расовый закон.
Мама натягивает нитку, откусывает её у самой материи, и вот, у меня теперь есть своё клеймо. Пальцами мама слегка разравнивает звезду, как делают портнихи в больших модных домах, когда заканчивают какой-нибудь сложный шов.
Когда я натягиваю куртку, входит папа. Он свежевыбрит, от него пахнет мылом и спиртом. Он смотрит на звёзды, потом на маму.
– Так-так, – говорит он, – так-так…
Беру портфель и целую маму. Папа меня останавливает.
– Ты ведь знаешь, что теперь нужно сделать?
– Нет.
– Стать лучшим в школе. Понимаешь, почему?
– Да, – говорит Морис, – назло Гитлеру.
Папа смеётся.
– Можно и так сказать.
На улице холодно, наши ботинки с деревянными подошвами стучат по мостовой. Не знаю, почему мне захотелось обернуться и посмотреть на наши окна – они были прямо над парикмахерской. Мама с папой глядели нам вслед. Они здорово сдали за последние несколько месяцев.
Морис идёт впереди, глубоко дыша, чтобы видеть, как изо рта валит пар. Я слышу, как звенят шарики у него в карманах.
– Думаешь, нам их долго носить?
Он останавливается, чтобы заглянуть мне в лицо.
– Понятия не имею. А тебе что, не всё равно?
Я пожимаю плечами.
– Ну вот ещё. Эта штука ничего не весит и носиться не мешает, так что…
Морис ухмыляется.
– Так что, раз тебе всё равно, чего ж ты её под шарфом прячешь?
Этот тип всегда всё видит.
– Ничего я не прячу. Это ветер мне шарф сбил.







