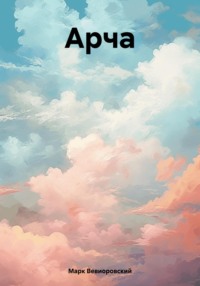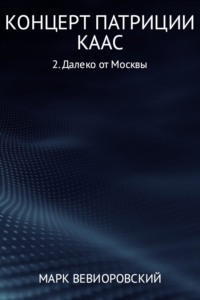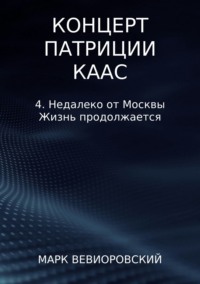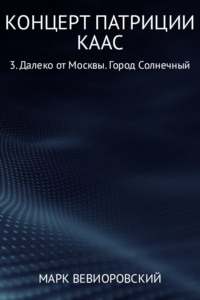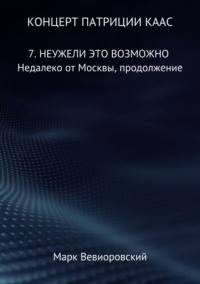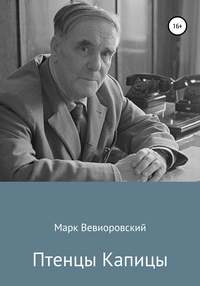полная версия
полная версияКонцерт Патриции Каас. Отрывки
Кроме этого на втором этаже первого жилого корпуса нашли место и служебные квартиры сотрудников интерната (или лесной школы) и зарезервированные квартиры для гостей фирмы.
И о чем бы Женя на разговаривала с Таисией Архиповной всегда разговор получался о Свиридове …
Сотовые телефоны – в городе были запрещены сотовые телефоны, обычные, а работали только фирменные, производства Владика Медякова, которые нельзя было ни засечь, ни подслушать.
Женя столкнулась с секретностью еще до того, как начала работать в газете – первый ее разговор здесь, в городе недалеко от Москвы, состоялся с полковником Лазарисом и касался он правил секретности. И подписывая обязательство о неразглашении она очень внимательно отнеслась к словам полковника о чрезвычайной важности работ, выполняемых под руководством генерала Свиридова.
Затем было несколько разговоров со Свиридовым, разговоров о самых различных проблемах, во время которых затрагивались и секретные аспекты. И Женя хорошо усвоила правило внутренней цензуры и причину запрета обычных сотовых телефонов. Это при том, как затем поняла Женя, далеко не все жители города обладали секретной информацией.
Совсем недавно – Женя уже работала в газете – в городе сняли запрет на фотосъемку на территории города и его окрестностях.
Значительно позже, когда Женя получила возможность посещать территорию фирмы и даже побывала на установках, она обратила внимание на строгое соблюдение правил техники безопасности.
И в разговорах с сотрудниками она убедилась в том, что постоянный инструктаж и проверка правил безопасной работы ведется не для проформы, не формально, а запись в журнале постоянного контроля – не шутка. И большое внимание соблюдению этих правил уделяет сам генерал Свиридов, и по его распоряжению снимали «с контакта» беременных девушек-операторов.
К несчастью, в слаженности работы службы различных служб, ведающих вопросами безопасности, Жене пришлось убедится на практике во время пожара в колхозе. Она не принимала непосредственного участия в этом прискорбном происшествии, но могла потом восстановить буквально по минутам все произошедшее начиная с момента вызова пожарной команды до оказания помощи погорельцам и работы следственной группы.
Пожар возник в жилом доме, позвонили на аварийный телефон фирмы из правления колхоза, пожарная команда выехала через три минуты после этого звонка, пожар был потушен за пятнадцать минут, полусгоревший деревянный сруб был раскатан и восстановлен за неделю, а погорельцы получили страховку.
Слаженность работы всех служб фирмы – а отдел техники безопасности с пожарной охраной и медсанчастью входил в состав подразделений фирмы «НИПЦ» – порадовали Женю. Именно порадовали, а не поразили – она уже начала привыкать, что здесь работают без дураков, либо не работают вовсе.
Ее публикация о пожаре в колхозе не содержала восторгов по поводу работы пожарных, а была посвящена тому, как очень простыми средствами предотвращать такие происшествия …
А еще в заметке Жени Кульченковой, журналистки, которая уже нередко печаталась в «Комсомольской правде» и в «Красной Звезде», были очень теплые и добрые строки о семье пожилых погорельцев и о их приемных детях …
К проблеме безопасности по мнению Жени относились очень серьезно, и методы утилизации отходов жизнедеятельности жителей города (и отходов производств) тоже не обошли ее внимания. Обратив внимание на многочисленные публикации и сюжеты по телевидению, посвященные свалкам и полигонам, Женя заинтересовалась тем, а как это решено тут, в зоне внимания Свиридова.
И с удивлением узнала, что эта проблема – секретна.
Секретна? Это только увеличило ее интерес к этой проблеме. Она стала исследовать эту проблему так, как она привыкла исследовать любую новую для нее область. И выяснила, что с самого начала деятельности института и города в лесу, в десяти километрах от города машиностроителей, была простроена секретная установка, куда поступали все всевозможные отходы.
Сразу у Жени возникли две сери вопросов: во-первых, почему установка секретная, а во-вторых, как же это умудрились справиться со всеми всевозможными отходами.
В ходе исследований – или расследований? – Женя выяснила, что все отходы свозят к установке в лесу, которая не имеет специальной охраны, и там исчезают бесследно. Или все это вылетает в высокую дымовую трубу, которая стоит на территории установки?
В конце концов в ходе очередной встречи с генералом Свиридовы Женя задала и этот вопрос – с какими секретами связана установка уничтожения отходов?
Ответ Свиридова для Жени был неожиданным – тогда.
С временем эта неожиданность прошла, сменилась твердым убеждением в том, что ничего случайного здесь не происходит.
А установка высокотемпературного каталитического разложения всевозможных отходов оказалась секретной просто потому, что эта установка была запатентована и засекречена в той стране, откуда ее «позаимствовал» Свиридов.
Под его руководством установка была воспроизведена, отлажена, усовершенствована, и теперь безостановочно работала много лет. Раз в год установку останавливали на осмотр и замену катализатора, который производили тоже тут, на одной из установок «НИПЦ».
Поэтому вокруг всех городов – города около центральной фирмы «НИПЦ», около научно-производственного филиала (или города «умников»), около города машиностроителей – не было никаких свалок.
В последний год с учетом резерва мощности установки разложения был заключен договор на уничтожение отходов из колхоза, но обо всем этом Женя ничего не написала в газете …
Но она несколько раз писала о колхозе, об установке переработки навоза в удобрение, о продаже этих удобрений даже за рубеж – и о том, что технология и оборудование было разработано в «НИПЦ» …
А это произошло на одном из вечеров вопросов и ответов, на котором перед залом говорил Свиридов.
Из зала потоком шли вопросы на темы культуры и музыки, и был вопрос о музыкальных пристрастиях самого Свиридова.
Свиридов назвал среди своих любимых композиторов Рахманинова, Мусоргского, Чайковского и Гершвина, отказался называть любимых исполнителей и певцов, артистов, и тут в зале …
– Виктор Антонович, микрофон!
Это крикнула Евгения Кульченкова, и Скворцов светом высветил ее, а Владик в операторской включил направленный микрофон.
– Прошу прощения! Но у нас уже сложилась традиция реплик из зала, так позвольте и мне! Вы хотите узнать у Анатолия Ивановича о его пристрастиях, а я не так давно пыталась узнать о его отношении к некоторым весьма известным и знаменитым актерам. И узнала так много нового и неожиданного о некоторых, причем это было глубокое исследование жизненного пути артиста, и я посоветовала Анатолию Ивановичу написать эссе на эту тему. А вылезла я, как тут уже некоторые выражаются, затем, чтобы сказать всем – попробуйте уговорить Анатолия Ивановича посвятить этому отдельный вечер. Гарантирую, скучать не придется!
– Уж, что-что, а скучать не придется! Я тоже могу заверить вас, – это уже вмешался Скворцов, – Анатолий удивительный рассказчик, но заставить его невозможно! Только по доброй воле!
Зал захлопал, зашумел, и Скворцову пришлось успокаивать публику …
Аккумуляторы типа «ЛЕКСАР» размером с распространенный элемент питания 373 (или R20, D и UM 1 по Международным классификациям МЭК, ANSI и JIS) появились в продаже.
В каждом магазине, в каждом отделе, торгующем этими аккумуляторами, висели доходчивые плакаты с описанием особенностей этих изделий и способе их зарядки.
Перед выпуском в открытую продажу аккумуляторов бытовых размеров на фирме «НИПЦ» состоялся конкурс на наименования самых распространенных моделей – элементов: LR03 (AAA) – 286; LR6 (AA) – 316 «Уран», A 316 «Сапфир»; LR10 – A 332; LR14 (С) – A 343 «Юпитер»; LR20 (D) – A 373 «Орион», «Марс»; 3LR12 – 3336 «Планета»; 6LF22 – «Крона», «Корунд».
У этих «батареек» были аналоги – серебряно-цинковые и ртутно-цинковые элементы в тех же габаритах и множество иных торговых наименований, и участникам конкурса было необходимо их не затронуть.
Жюри выбрало следующие варианты: для типоразмера «ААА» – «Фингер», для «АА» –«Бриллиант», для «С» – «Малой», для «D» – «Толстый», для «3336» – «Плоский», для 6LF22 – «Корона». Некоторые названия звучали настолько странно, что их в торговле не использовали, но даже безымянные новые «батарейки» быстро оценили и раскупали несмотря на существенно более высокую цену по сравнению со старыми.
Установки на фирме «НИПЦ» и в ее далеком сибирском филиале работали в полную мощность, и их основной продукцией были аккумуляторы для электромобилей под условным названием «Скромный» БЕ-24 (на 24 Вольта) и «Хохотун» БЕ-48 (на 48 Вольт), и для тяжелой техники – «Богатырь» БЕ-96 (на 96 Вольт). Эти аккумуляторы можно было собирать в батареи любым образом – например, соединять БЕ-24 и БЕ-96 в одной батарее, получая батарею с напряжением 120 Вольт. Буквы «БЕ» означали Баранов-Ерцкая, поскольку после долгих препирательств из всех фамилий авторов выбрали этих двоих, как внесших наибольший вклад в изобретение и налаживание производства «ЛЕКСАР’ов».
«Скромный», «Хохотун» и «Богатырь» имели по несколько модификаций различной емкости, но понятие «емкость» для этих аккумуляторов было величиной весьма условной. Эта условность скорее всего проистекала из того обстоятельства, что «ЛЕКСАР» аккумулятором в общепринятом смысле слова не являлся – он скорее это был конденсатор, то есть ионистор.
Но и как конденсатор «ЛЕКСАР» был способен отдавать различной количество энергии в зависимости от условий работы, то есть от сопротивления внешней цепи. В качестве примечания можно заметить, что для многих современных аккумуляторов на полимерной основе с использованием ионных механизмов преобразования энергии емкость тоже становилась понятием условным (и как это угадали составители древних советских ГОСТ’ов?).
К примеру, китайские аккумуляторы для электромобилей позиционировались как имеющие емкость 100 А.ч, но в различных условиях эксплуатации их емкость тоже была различной.
А у «ЛЕКСАРА» понятие емкости использовали для чисто производственных оценок, причем емкость эта тоже различной – при коротком замыкании внешней цепи и при некоторой оговоренной силе тока в цепи нагрузки. При коротком замыкании во внешней цепи емкость оценивали по времени, за которое напряжение на клеммах «ЛЕКСАРА» падало до заданной величины.
Но в качестве производственной характеристики, которая указывалась производителем каждого аккумулятора, и которую гарантировал производитель, был гарантированный пробег электромобиля конкретной модели между перезарядками и количество перезарядок, поэтому аккумулятор без привязки к конкретному потребителю не имел всеобъемлющей характеристики.
И это мешало широкому распространению «ЛЕКСАР’ов».
На серийный электромобиль «Русский Лист» устанавливали аккумулятор менее мощный, чем был в свое время передан для испытаний в Японию.
Для изготовления всех этих «ЛЕКСАР’ов» использовали не только все свободные от исследовательской работы установки, но даже запустили несколько новых, но увеличивать выпуск становилось почти невозможно.
И решения этой проблемы пока не наблюдалось …
Но Свиридов был убежден, что если есть проблема, то найдется и ее решение – вся практика убеждала в этом …
Кабинет Свиридова в главном здании «НИПЦ» был скромен, и даже аскетичен. Это не мешало ему быть уютным и обжитым, но богатством обстановки кабинет не отличался. Даже канцелярия, разместившаяся в помещении бывшего парткома недалеко от кабинетов Свиридова и Антиповой была обставлена богаче.
Не так давно в кабинете появился небольшой шкафчик со стеклянными дверцами – в нем аккуратно выстроились все модели аккумуляторов «ЛЕКСАР», освоенных фирмой. Самые крупные модели аккумуляторных батарей для тяжелой техники стояли на нижней полке рядом с образцами зарядных устройств.
Заказывая себе этот демонстрационный шкаф Свиридов сразу заказал четыре экземпляра – для Антиповой, для Долгополовой и для Волкодава. И эти демонстрационные шкафчики пригодились – посетители, потенциальные заказчики – изучали их с большим интересом, и сразу начинали выпрашивать образец для испытаний.
Виолетту Свиридов увидел только за обедом – все утро она лазила по установками и знакомилась с рабочими журналами.
Он обратил внимание на ее усталый вид.
– Привет, Толя.
– Здравствуй. Устала?
– Немного. Когда можно зайти поговорить?
– Заходи в семнадцать часов. – У Свиридова часто прорывалась армейская привычка обозначать время.
В пять часов Виолетта Владимировна подошла к кабинету Свиридова.
– Садись, Виола. – Он вышел из-за стола и сел напротив нее за приставным столом. – У тебя очень усталый вид. И глаза красные. В чем дело?
– Я просматривала рабочие журналы, а их заполняют от руки … Ничего, отосплюсь в Москве, отдохну.
Она потерла глаза.
– Я к тебе по делу. Мы с Леной … с Леной Долгополовой прикидывали, как увеличить выпуск «ЛЕКСАР’ов», и у нас появилась мысль о расчленении процесса. Если выделить основные стадии, то появится возможность перенести некоторые операции процесса в другое место …
– То есть оставить на установках только получение пленки? И ее вытяжку?
– Но для вытяжки нужны совершенно другие условия! А дальше вообще можно обойтись без поля! Я проверила!
– А изменение режима на установках?
– Минимальные – я тоже проверила! Но без твоего приказа никто даже помыслить не смеет об изменении режима, об изменении регламента. Наверное, это правильно, но …
– Какую серию необходимо изготовить по новой технологии? Для испытаний по полной программе?
– Примерно двадцать «Бриллиантов» и «Толстых», а для больших будут нужны полевые испытания … Я понимаю, насколько это сложно, но другим способом увеличить выпуск …
– А ты не прикидывала, насколько вырастет выпуск при изменении технологии?
– Мы с Леной оценивали это примерно раз в пять. Но это прикидка!
Свиридов уже что-то чертил на листе бумаги.
– У меня получается даже больше! Садись рядом – прикинем …
Виолетта пересела на другую сторону стола и стала смотреть, что там пишет и чертит Свиридов. Она поправляла его, предлагала свое или соглашалась с его наброском, и вскоре Свиридов пересел на свое место за столом и включил компьютер.
Виолетта пристроилась сбоку и смотрела на текст, появляющийся на экране монитора. Она совершенно не удивлялась, что текст стремительно появлялся на экране, хотя Свиридов не касался клавиатуры. А потом текст замирал, Свиридов пробегал пальцами по клавиатуре, фраза замирала на середине, и Виолетта предлагала ее продолжение.
Очень скоро появился приказ о проведении опытных работ, где подробно были описаны стадии исследований и назначались ответственные по каждой из стадий.
И ответственный за весь комплекс за исключением контрольно-испытательных операций – доктор технических наук В.В. Ерцкая.
– Напросилась … – устало сказала Виолетта.
Это было только начало.
А результат окончательно проявился только через несколько месяцев, когда все испытания аккумуляторов, изготовленных по новой технологии – кроме больших! – были успешно завершены, а на полигоне безостановочно бегали два электромобиля и два электротрактора.
К этому времени была не только детально проработана новая технология, но и в Москве было разработано и изготовлено все новое оборудование. Часть оборудования улетела в Сибирь, где его монтировали на машиностроительном заводе. Этот завод по непонятной причине все еще называли заводом Дерендяева, хотя эта фамилия уже многим была неизвестной – видимо, какие-то фонетические особенности задержали это название.
Монтировали такое оборудование и недалеко от Москвы, на заводе Дементьева.
Через полгода, когда выпуска электромобилей «РуссLeaf» на территории бывшего АЗЛК стал приближаться к проектной отметке, дефицита в аккумуляторах уже не ощущалось – более того появилась реальная возможность их коммерческой продажи.
К этому времени появилась и фирменная марка аккумуляторов «ЛЕКСАР» в виде лица уютного улыбающегося старичка, в котором все с удивлением признавали Виолетту – это была фантазия Гриши …
А Елена Геннадиевна Долгополова и Виолетта Вадимовна Ерцкая за налаживание нового производства аккумуляторов «ЛЕКСАР» получили ордена …
В Москве появился фирменный магазин «Научно-исследовательского и производственного центра новых технологий», где стали продавать некоторые изделия фирмы «НИПЦ».
Сначала там было всего два отдела – отдел технических жидкостей и отдел аккумуляторов.
Богато оформленные стенды подробно информировали посетителей о всех достоинствах продаваемой продукции и приводили характеристики всех товаров.
Это стенд привлекал внимание не только потенциальных покупателей, но и специалистов совсем иного толка – не зря по распоряжению Свиридова за стендом стояли видеокамеры.
Покупатели быстро распознали выгоды приобретения небольших аккумуляторов бытовых форматов, тем более что их принимали для перезарядки здесь же, в магазине – и это несмотря на их высокую цену.
По распоряжению Свиридова партии аккумуляторов марки «Толстый D», аналога широко распространенного 373-го элемента, были бесплатно переданы горнякам, спасателям, пожарным, в МЧС. Но со строгим предупреждением – если хоть один аккумулятор будет продан, то в дальнейшем все аккумуляторы будете получать по рыночным ценам!
Естественно, утечка состоялась, продавцы и покупатели были установлены, виновные – наказаны, и наказаны рублем провинившиеся организации.
Ну, кому какое дело, что все это было организованным каналом утечки образцов аккумуляторов (и куда надо!) …
На территории бывшего АЗЛК недалеко от станции метро «Текстильщики» уже вовсю работало производство электромобилей «РуссLeaf» («Русский Лист») совместно с японской фирмой «Ниссан». Это было чисто автосборочное производство, и туда регулярно приходили эшелоны с машинокомплектами из Японии.
Недалеко от Москвы, в одном из моногородов оборонного комплекса осваивали изготовление некоторых агрегатов для японских машин, кое-что уже отливали в другом месте Подмосковья. А кое-что из резинотехнических и пластиковых изделий пытались освоить московские предприятия.
Свиридов на АЗЛК бывал не часто, а чаще Генеральный директор этого совместного производства Яков Ракитин бывал на машиностроительном завода Дементьева, где тоже вовсю работало опытное производство электромобилей «РуссLeaf».
И Ракитин, прошедший серьезную практику в аппарате Минэкономразвития и в Англии, с уважением выслушивал Арсения Волкодава, возглавившего опытное производство.
Арсений побывал в Японии на практике на заводах фирмы «Ниссан», и несмотря на молодость был поставлен Свиридовым во главе опытного производства – и хорошо справлялся с этим.
Арсений Волкодав активно экспериментировал на основе машинокомплектов, получаемых из Японии, и чаще всего находил понимание у Ракитина, у главного инженера завода Стригунова, у Варданяна, у Дементьева, а главное у Свиридова.
Свиридов, формально не занимающий никакого официального поста в совместном производстве электромобилей, фактически оставался главным в этом проекте, и это признавали не только «свои», но и японцы.
В самом начале при создании совместного производства японцы высказали предложение о создании фирменного лейбла – фирменного знака этого совместного, но все же российского предприятия, и такой внутренний конкурс был объявлен.
Об этом конкурсе знал Гриша, и после разговора с отцом, Яковом Ракитиным и Борисом Стригуновым, которые бывали у них в гостях, Гриша набросал несколько эскизов такого фирменного знака.
На этом знаке обыгрывалось название – «Русский Лист», но в сочетании латинского шрифта и кириллицы – «РуccLeaf». Рисунок был прост и несложен для воспроизведения, и, возможно именно это подтолкнуло японцев к выбору именно этого эскиза.
На основании эскиза – уже по договору – Григорий Свиридов выполнил рисунок фирменного знака совместного предприятия по производству электромобилей «РуссLeaf», и этот фирменный знак появился на капотах этих голубеньких малышей.
Это – разработка фирменного знака – оказалось заразным, и Гриша разработал фирменный знак и для аккумуляторов «ЛЕКСАР» …
Если производство около метро «Текстильщики» наращивало выпуск маленьких, юрких и таких уютных машинок, приближаясь к плановой величине – порядка ста тысяч машин в год, то опытное производство за количеством не гналось, и там выпускали всего две – две с половиной тысячи машин. Но каких!
Японцы, представители фирмы «Ниссан», только удивлялись – сколько выдумки и таланта вкладывали конструкторы Варданяна и Волкодава в модернизацию базовой модели.
И если серийные машины поступали в открытую продажу и расходились «как горячие пирожки», то опытные экземпляры поступали на испытание в далекий город «Солнечный», где охотно бегали в тех экстремальных условиях.
Представители фирмы «Ниссан» не знали, где происходят эти испытания, но получали подробный отчет по каждой машине – дневной пробег, климатические условия, остаточный заряд, время до зарядки и время зарядки. С последним было трудно – пока еще ни один из аккумуляторов, установленных на «российских листьях», не потребовал зарядки, хотя многие из них уже прошли гарантированный пробег – 1000 километров – и продолжали бегать дальше под неусыпным контролем.
Только на двух электромобилях, которые без устали круглые сутки бегали по полигону в Дмитрове, серийные аккумуляторы пожелали подзарядиться после непрерывной работы и пробега более 5 тысяч километров, но это были самые первые образцы с мощными аккумуляторами.
Это было запротоколировано, и величина энергии, затраченной при испытании этих электромобилей, была зафиксирована как реальный предел при использовании аккумуляторов «Сакура» – так назвали образцы «ЛЕКСАР’ов», выпускаемых для этих электромобилей.
Аккумулятор под именем «Сакура» был принят для использования на легковых машинах малого и среднего классов – весом до двух тонн. Этот аккумулятор считался «маленьким» – батареи «больших» «ЛЕКСАР’ов» с именем «Богатырь» таскали танки и другую тяжелую технику.
А на покупку электромобилей «РуссLeaf» – «Русский Лист» записывались, как в стародавние времена, когда автомобили продавали на Бакунинской, и очередь была длинная …
В Тольятти уже давно, еще в 1977 году пробовали создавать электромобили, и опытные экземпляры таких машин бегали по заводскому полигону.
Свиридов об этом знал, и давно уже ожидал – когда же ВАЗ проявит интерес к новым аккумуляторам?
Во время его очередного визита в РСПП к нему подкатился полненький мужичок и с непосредственностью южного человека попытался накоротке познакомиться со Свиридовым. Его хватило секунд на тридцать, после чего мужичок сник, стал заикаться.
Свиридов вручил мужичку свою визитную карточку и отошел.
Мужичок, представитель ВАЗ’а по фамилии Пелехатый, позвонил по указанному в визитной карточке телефону и Мари соединила его со Свиридовым.
Договорились о встрече на территории совместного с «Ниссан» производства около метро «Текстильщики», и Свиридов принял мужичка в солидном кабинете Генерального директора совместного предприятия Ракитина.
От проходной гостя проводил неразговорчивый охранник в аккуратной форме и ввел его в кабинет с солидной табличкой «Генеральный директор завода «RussLeaf» Ракитин Яков Филиппович».
– Яков Филиппович? – растерянно спросил пришедший.
– Здравствуйте, Филимон Трофимович. Меня зовут Анатолий Иванович Свиридов. Я слушаю вас.
– Очень приятно … Анатолий Иванович. Нас, Волжский автозавод интересуют аккумуляторы, которые вы устанавливаете на ваши японские машины. У нас разработаны серьезные модели перспективных электромобилей, и мы с удовольствием рассмотрели бы ваши предложения.
– Характеристики наших изделий вы можете посмотреть в нашем фирменном магазине. Других предложений не будет. А если вам нужны аккумуляторы типа «ЛЕКСАР», то пришлите свои «Технические требования». Мы рассмотрим, оценим свои возможности, и ответим вам.
– Но разве у вас нет проспекта или чего-нибудь подобного? Может быть можно ознакомиться с вашим производством?
– Какая форма допуска у вас?
– Допуска? Допуска чего?
– Я имею в виду форму допуска к секретным работам. Так какая у вас форма?
– Так … Нет у меня никакой формы …
– Тогда пишите. Можете писать сюда, на адрес Ракитина Якова Филипповича. И присылайте кого-нибудь, кто имеет допуск, хотя бы третью форму …
Образец аккумуляторной батареи из сборки моделей «Хохотун» БЕ-48 на 48 Вольт Волжский автозавод получил примерно через месяц, и там начали испытывать его на последней перспективной модели …
Свиридов чувствовал, что с ним старается связаться Исидо-сан, один из директоров японской фирмы «Ниссан». Когда Исидо-сан звонил по телефону, указанному на визитной карточке Свиридова, и представлялся, то Мари вежливо на хорошем английском языке отвечала, что Свиридов-сан в отъезде, что ему обязательно сообщат о звонке уважаемого Исидо-сан, и что Свиридов-сан обязательно свяжется с уважаемы Исидо-сан.