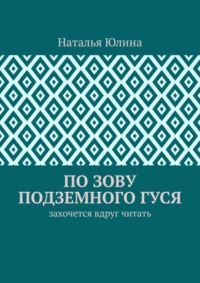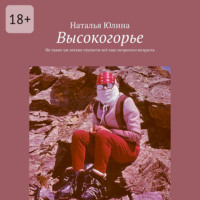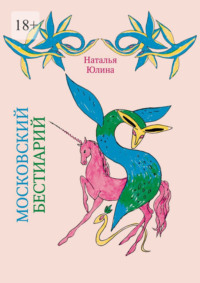Полная версия
Танцы с чужим котом. Странный Водолей
Здесь, в экспедиции я работала на солнечном телескопе.
Но без энтузиазма. К концу лета начальник Елена Александровна дала пачку бумаг. Это записи наблюдений солнечного затмения, сделанные на самописце несколько лет назад под ее руководством где-то в Бразилии. Солнечники ловили затмения по всему миру.
Я долго не начинала работу, но сделала всё быстро. Надо было в графиках выделить среднее значение. Нет, я ленива чрезмерно. Только б гулять, да и гулять, уже не то. Лужайки – пыль и земля. Юрта в Медвежьем ущелье стоит, а я называла его своим. Да, моя долина, глаза б мои не глядели…
Чтобы сбить напасть унынья, я спущусь в Алма-Ату. При первой же возможности.
В гости ходить, кто не любит? Мне повезло. Первый раз именно наша московская соседка привезла меня в свою родительскую квартиру в центре Алма-Аты. Оказалось, что она дочь от первого брака биолога, академика Бориса Ивановича Ильина-Какуева.
И вот Борис Иванович и Анна Борисовна, вторая жена, помогают мне не забыть, что кроме природы есть еще на свете что-то очень хорошее.
* * *Алма-Ата
семья академика
Однажды, ничего наверху не сказав астрономам, в Хиву я уехала, подлинный посмотреть Туркестан. – Вру, конечно. Просто всё надоело, и потянуло вдаль. Но, действительно, оказалась поездка путешествием в век двенадцатый, так увидела.
Шатаясь между крошечными глиняными домами, забрела за глиняный дувал. Мальчик меня встретил. Пригласил к себе. Так я впервые побывала в комнате без крыши, стола и стульев. Пила с ним чай. Никакой еды в доме не было. Они живут не только без крыши и прочего, но и без еды. Зато чувствовала я себя в гостях у мальчика, как дома.
Кроме этого, были у меня и другие путешествия в Средней Азии. Они и стали материальной основой моей книги о Чокане Валиханове.
Вернувшись, обнаружила, что там наверху меня никто не ищет. Но в Алма-Ате всё по-другому.
Семья академика тут меня привечает. Квартира с верандой, большой застекленной, в доме старинном на самом центральном проспекте – чай, не московская клетка – потолок метров пять.
Всем заправляет Анна, супруга. Заправляет? Командует? – Нет. Царит – вот точнее.
Я нажимаю кнопку звонка, за дверью высокий голос:
– Анна Ивановна, не открывайте, это ко мне.
В прихожей полумрак. Анна Борисовна скорбно произносит:
– Если б не ваша телеграмма, я бы подняла Хивинскую милицию. Телефон уже узнала. Уехать, и никаких вестей, мало ли что может случиться!
Царица, как всегда, элегантна в той, высшей степени, когда одежду не замечаешь.
Скромное платье надето на жесткий корсет – так надо. Очень прямая спина и осанка царицы пронзительным взглядам расставленных косо, один далеко от другого, глаз небольших сообщают величье. Ну, не величье, но чувствуешь всё-таки «над», несмотря на маленький рост и совсем уж отсутствие тела.
Ее лицо никогда не было самим собой: то выражало величественную скорбь, то непосредственность забияки-ребенка и только, когда она впадала в гнев, оно приобретало естественность и отчетливо говорило: «да, я злая, злая, но я хочу быть злой и буду, имею, в конце концов, право».
Я не знаю, как оправдаться, ведь я послала телеграмму через два дня после отъезда, а всего отсутствовала четыре дня.
– Простите, Анна Борисовна, я не думала, что это принесет вам столько огорчений.
– Не думала. Хм. А кто же за вас должен думать? Вы уезжаете из моего дома, и не дай Бог, я виновата. Слава Богу, что всё обошлось. Анна Ивановна! Можно подавать обед.
Поворачиваясь ко мне:
– Вы, наверно, страшно проголодались.
– Анна Борисовна, извините, пожалуйста, можно я приму ванну?
– Ах, ну пожалуйста. Анна Ивановна, обед через четверть часа.
Непредвиденный слышен звонок. Я дверь открываю, поскольку отойти далеко не успела. Царственным жестом руки Анна-хозяйка мне представляет: «Это Таня, знакомьтесь. Таня школу окончила в этом году, мечтает филологом стать». Потом Тане меня: «Наталья Хивинская – физик московский».
Книгу протянет царице Танюша и тут же уйдет, обещая завтра зайти на подольше. Живет она тут по соседству. После с ней будем друзьями, за жизнь говорить, на прогулки ходить. Девочка Таня, если со мною сравнить, совсем городская, очень хочет ученою стать, хоть и трудно, и деньги нужны, и к мальчикам тянет.
Потом мне призналась, что сильно шокировал вид мой тогда. Думала, физик, Москва: что-то чахлое, смолоду в дух воплотившись, кривое, а тут с красным крестьянским лицом здоровая тетка. Увы.
Но что у царицы?
Через четверть часа я, спросив разрешенья, звоню на Кисловодскую, к нашим астрономам. Сижу у телефона в гостиной, Анна-прислуга на опухших ногах, вперевалку уж супницу грузную тащит.
Мне всегда неудобно сидеть в то время, когда эта старая, с трудом двигающаяся женщина прислуживает за столом. Но встать и помочь ей, у меня даже в мыслях этого нет. Это было бы бунтом, проявлением неуважения к дому.
Анна Борисовна входит в комнату, я кончаю разговор и тоже сажусь на своё место за обеденным столом.
– Борис Иванович сейчас выйдет, – говорит она и, понизив тон, – опять спал перед обедом. Говорит, что идет работать, а сам ложится и засыпает или часами перебирает гербарий. Я очень за него переживаю. Он опускается, лучшее его занятие – это чтение. Читает недолго, и каждый раз одно и то же, всегда «Евгений Онегин». Иногда начинает всхлипывать, как ребенок.
Слышится скрип дальних дверей, и в гостиную медленно входит Борис Иванович. Увидев меня, он меняет свой путь и, почти не отрывая ног от пола, подходит ко мне, протягивает руку, и на его лице мелькает тень оживления:
– Наташа, здравствуйте, а мы, знаете, уже волнуемся. Вот, Анна Борисовна – он показывает на нее глазами и тут же их опускает. Голос его, хотя и академический, но совсем не такой, как у современных академиков, к тому же, академичность относится только к манере строить фразу более эксцентрично, чем прямая фраза Анны Борисовны. Что касается интонации и тембра, то здесь сквозь старческую немощь отчетливо слышится нежность. Не верится, что эта нежность произошла от старости.
Забыв обо мне, он идет к своему стулу.
И вот все за столом. Белоснежная скатерть, безупречные, ярко сияют тарелки, у каждого по две, одна на другой. Вилки, ложки, ножи по-другому блестят, вроде льдистой реки нашей горной. Но то, от чего трудно взгляд отвести жителю местности скудной, имя зверское носит – бычье сердце. Малиновый шар с острой гузкой, размером с арбуз в центре стола соблазняет. Я, конечно, не схвачу помидора, пока Анна Борисовна не похвалит сорт и не предложит взять. Тогда я беру рукой – будь что будет, может, вилкой еще хуже – кладу себе на маленькую тарелочку, режу пополам. И от одной половинки отрезаю слезящийся плотный кусок, чуть надкусываю. Повесть о сладости тонкой намека, о твердой, как полдневная тень, остроте, о бережном чувстве друг к другу, твоем с помидором. Просто Пруст, первый том.
Царица из супницы пищу не ест. Ей по заказу: овсянка, кисель и настойка врачующих трав. В сталинских ссылках здоровье утратив, закалила то, что природа в избытке дала: силу духа, волю к победе, одинокую гордость души.
Борис Иванович ест без жадности, но с аппетитом. Академик, старше царицы, добротой бесконечною мил, но супруга им недовольна, мало трудится, много, для старого, ест.
После обеда супруг удаляется в свой кабинет. Царица ждет какого-то травяного настоя и говорит мне: «А теперь, Наталья Хивинская, рассказывайте». Много позже тех лет незабвенных пойму: меня удержать ей хотелось, молодость, кажется, силой волшебной душами старцев владеет.
Меня не обманешь, отделавшись несколькими фразами, я без особого труда перехожу на роль слушателя. Люди чаще всего предпочитают слушать себя, Анна Борисовна не исключение. Она может рассказывать часами, и ни разу я не замечала на ее лице признаков усталости. Когда же она слушает меня, она как будто слышит не мои слова, а своё собственное эхо этих слов, хотя нельзя сказать, что она не внимательна, мельчайшие детали и оттенки моих интонаций от нее не ускользали. Ко всему прочему, за четыре дня моего отсутствия, по-видимому, у нее не было поводов выговориться.
Приятней всего ей вспоминать про Смольный Институт благородных девиц. Однажды рассказала, что среди однокурсниц была такая красавица, что начальство, занимаясь своими делами, сажало ее напротив своего стола, чтобы видеть красивое лицо.
Анна Борисовна, если и думала о своей красоте, то очень недолго. Она превосходила многих и многих сокурсниц интеллектом. Конечно, западные языки знали все, (полагалось говорить один день только по-немецки, второй по-английски, следующий по-французски, и так все дни), но почему она, получив образование филолога, овладела тюркскими языками?
Окончен Смольный и в том же 17-ом году кончилась империя. У отца Анны, известного политического деятеля Бориса Никольского, казненного в 19-м, вся семья смята и растоптана революцией. Один сын большевик, второй монархист, оба погибли. О матери и младшем брате может позаботиться только дочь, Анна.
Принадлежность семьи к царской элите трагически сломала ее судьбу. Выйти из категории лишенцев уже почти получилось, в 31-ом она была принята на должность старшего палеографа в библиотеке АН СССР. Среди ее работ заслужило похвалу А. В. Луначарского исследование об изображении природы и внешности человека в древнерусских литературных памятниках, но в 34 – ом, скорее всего по доносу, ее высылают в Алма-Ату. Еще в Ленинграде она начинает перевод «Абая». Теперь изучает казахский фольклор и продолжает вместе с М. Ауэзовым, автором этого огромного произведения, работу над переводом его романа, но в 37-м опять арест – десять лет лагерей.
В лагере организовала театр, писала для него пьесы, ставила.
В 44-м, вместе со многими другими заключенными «доходягами» из Севурлага, ее привезли в Талгар. Она не имеет права прописки даже в Алма-Ате, но Талгар почти пригород Алма-Аты, автобус идет около часа. Начала туда ездить.
Мне рассказала, что единственное платье, в котором ездила в столицу, стирала в реке и на камнях сушила.
Работа над «Абаем» продолжилась.
За перевод эпопеи казахского классика Ауэзова получила членство в Союзе писателей, награды и званья.
Теперь она пользуется среди писателей большой известностью, и я свидетель, как шли к ней за справкой те, кто сочинял историческую прозу: как при дворе офицеры носили шпагу, как дамы цветами себя украшали, что полагалось держать в руках в разных обстоятельствах.
Её работы талантливого ученого несправедливо почти забыты. Например, как текстолог, участвовала в подготовке собрания сочинений Ч. Валиханова, а труд ее жизни, перевод «Абая» М. Ауэзова переведен на 20 языков и имеет статус классики. Хотя в момент выхода романа обстановка в стране изменилась, но Никольская не обозначена в издании как переводчик, и никаких денег за свой колоссальный труд (два тома по 600 страниц) не получила. Категория лишенца не имеет сроков давности. Ни в одном издании до сих пор нет ее имени. Жалоба К. Симонову осталась без ответа. И деньги, и слава достались другому.
Всё это я узнала не от неё.
Конечно, это непризнание никогда не забывалось, как и сумрак лагерных лет.
Про лагерь обычно не рассказывала. Но сегодня по-другому.
…Снег без солнца. Кое-где желтые острова болотной травы. По бескрайнему полю медленно извивается колонна заключенных. В начале этой черной реки начинается песня «Степь да степь кругом». Ее подхватывают. Она набирает силу. В ней нет угрозы, но мощь выражения чувств такова, что все препятствия, без сомнения, этот поток мог бы смести. В конце колонны тонким, обрывающимся ручейком вливается в пение голос Анны Борисовны…
Окончив этот эпизод, помолчав, говорит о питерских, дальних, былинных отсветах прежних времен. В отсветах мало героев: близкая ей Лозинских семья, сам Маяковский, Ахматова, тоже сама. Теперь понимаю: двадцать с лишним лет заключения Петербург возвели в нереальность. Память все сохранила в черно-белых смысла узлах, плоти лишенных.
Долго ей вспоминать не под силу. Из тонкого рта узкий язык, как змеиное жало, мелькнув, пропадает. Помолчим. Разойдемся по комнатам.
Библиотека – гнездо здесь мое и жилище. Затертый паркет. Высокие окна во двор, тенистый, нешумный. Лишь голуби утром, пока до конца не проснешься, воркуя, о Персии дальней, о ближнем Китае мысли-сны навевают: ведь видела, знаешь с первого раза как здесь появилась, они – иноземцы, южане субтильные в розовых перьях.
Просыпаться приятно, труднее заснуть. На стул забираюсь, поближе к окошку. Блаженство, как будто я дома в Москве, как будто мне снова семнадцать, и в форточку сладко курю.
Теперь почитаем. Что бы такое – такое. Сокровища Крёза хранятся в шкафах от пола до верха. При жизни Цветаевой выпущен сборник. Вот он стоит. Его я уже возвратила. С собой в экспедицию Пруста «В поисках» хочется взять, том второй. Завтра поднимемся. Или нет, завтра с Таней, пожалуй, знакомиться будем.
Город, улица, дерево, я
Алма-Ата теперь вспоминается как сон. Сон о святом человеке, о потере богочеловека. Ходила и грезила, пыльные чувства тревожа. Но город вторгался.
Июль, жара. Люди в полночь выходят гулять. Прохлада с гор опустилась, от асфальта волны тепла. Фонтан подсветкой мерцает, а улицы тонут в тени. От фонтана к фонтану шагаем к Большому арыку. Таня тоже не хочет словами пугать тишину.
Этот темный, теплый уют – чтобы я ни себя, ни тебя не меняла, чтоб реальность померкла, оставив в покое меня.
Или трамвай. Полдневный, пустой. Параллельно горам, суетливым центральным проспектам по проулкам пустым дребезжит. Дом, колонка под деревом, снова дом деревенский и дерево снова. И меняясь одно за другим, остается все время таким же: город, улица, дерево, я. Нет конца переменам, ведущим всегда к одному. Я – другая, я – та же. И если чувство к тебе мне изменит, то это лишь повод ему возвратиться.
Остановка. Неприметный домишко темным глазом пустым уставился в близкую землю. Люди. Какие-то люди входят в трамвай. А девушка, видно, не хочет. Стоит неподвижно. Смотрит в мою сторону, но мимо меня. Вглядываюсь.
Лицо-загадка. Такого лица не встретишь в обычной, коричневой жизни. В славянских чертах проступает китайская милая тихость, серьезная цель, не входящая в наш обиход: магический круг намерений странных, мыслей других и чувств непонятных.
Что могло бы ей радость доставить? А что – тронуть? Рот срисован с чего-то, что в транс заставляло впадать поколенья. Может ли – странно подумать – каша, капуста таким существом поглощаться? Не может оно, существо, такими губами не богохульствовать, а просто, что-то дурное сказать. Лепка лица, носа, глаз очертанье – тут слова не подходят. Другое здесь. Избыточный пафос природы? Орудие Бога? Но цель? Бог весть. Надо стараться понять. Надо стараться.
Обещаю, обещаю. Потом.
Потом пришло через неделю.
Идем с Таней по центральной площади. Впереди оперный, сзади кинотеатр. Таня неожиданно останавливается: «Здраа… сте». Бледное лицо розовеет. Левым плечиком дернет-замрет: уже знаю, что Таня смутилась. Оборачиваюсь. «Она» сквозь меня без улыбки глядит. Не может быть. Наверно, от странности рот я открыла. Невозможно.
Что-то произносит юношеский голос. Только теперь вижу ее спутника. «Мы в кино – весело сообщает он – спешим». «Ну-нуу – тянет Таня – матушке привет». Это одноклассник, говорит она мне, называя какое-то имя. Они уже исчезли за поворотом. «А она?», спрашиваю. Таня скептически поджимает губы: «не знаю».
И было третье виденье.
К вечеру как-то к нам в экспедицию наша машина пришла. Вместе с завхозом выходит Она и спутник – другой. Впрочем, может быть, тот же.
Оказалось, Коля спутника звал, где-то пили и – вот.
Поселили приезжих в комнате рядом с моею.
Вместе собрались все наши и двое гостей, что-то пили. Спутник, с богемной претензией мальчик, цитировал чей-то задиристый бред. О бессмысленной нежности жизни. О глупом искусстве, что глупо в агонии бьется, не надо мешать. И вообще, не мешаться, иначе раздавит простец. Молчала Она, даже голос никто не услышал, лишь спутнику что-то сказала, но тихо совсем, не для нас.
Решили отправиться в «горы». Коля, как человек с мотоциклом, не привыкший к пешим прогулкам, наотрез отказался. Артур, просто член Ордена, тоже. Она не пошла, исчезнув мгновенно. Шар, я и спутник отправились в путь.
Спустились в Медвежью долину. Спутник что-то молол, потом перестал. На гору «мою» тихо ползли, и тут стало быстро темнеть.
Зеленой яркой темнотой трава нас окружила, синеглазые цветы уставились в лица и смотрят. Да так, что и взглянуть ужасно. Мы застыли.
Вибрации легкие волны сквозь тело прошли. Тишина. Вниз побежали скорее, скорее в обычность привычек.
Набычившись, спутник остановился и вдруг поймал меня, летящую сверху. Посмеиваясь, прижался всем телом. Мне показалось, что меня обволакивает какая-то цепкая рептилия. В ужасе я вырвалась и помчалась дальше. Шаром катившийся Шар ничего не заметил.
Вернулись, разошлись по комнатам. Дом, как обычно, в полной заснул тишине.
Когда утром пошла умываться, увидела настежь открытую дверь. Гости исчезли.
Что за странное существо эта девушка, или она Лиса Пу Сун Линя? Тогда визит не случаен? Что-то ей надо во мне? И зачем на меня насылала угря?
Хочет, чтоб я изменилась? Чтоб я изменила, поняла, наконец, все, что в мыслях с тобою связала – болезнь? И название есть: «Эм Дэ Пэ»
(маниакально-депрессивный психоз). Не выйдет.
Моя любовь в сентябре – улица. То есть улица стала тобою, и сентябрь один на двоих. Сухая земля на газонах под жесткой иссохшей травой – тоже счастье.
Мимо огромного, корою не старой, старинной, с рисунком глубоким, широким, меня оглядевшего дуба пройду и вот он – другой. За этим еще, и всё дальше и дальше. Что вверху, и не видно. Там между ветвями воздух висит золотой, здесь золотистый, пожиже. Там кроны сплелись, вспоминая какой-нибудь дальний, ну, семьдесят пятый, а век был какой? Не наш же, а чей?
Шпок – в голову желудь. Привет, XIX век. Удачно попал, хоть целился долго, много уж раз снаряды рвались под ногами, в них время-пространство плотно свернуто в детский пакетик. Жалко, целой рощицы шелест разбился, исчез, не начавшись, ну, в точности так, как обойма живых желудей, во мне созревавших без толку.
Кроме пуль этих жестких ничто тишину не нарушит.
А кто тишине помешает? Машины? Ну, да. Но они в другом измеренье. Где-то там под ногой, под корнями дубов. Здесь – в небе стволы, оттуда тугие посланья, и иногда, редко-редко чье-то лицо приплывет и исчезнет, оставив меня безучастной. Это раньше любила в лице незнакомом идею всей жизни его отыскать. Ну, играла, конечно.
Может быть, встречу Лису?
Но нет. Нет даже похожих. Она не исчезла, но видеть ее не дано. А вспомнить лицо так же трудно, как потерянный рай обрести.
Рай или ад, от точки зренья зависит.
Постепенно становлюсь трезвее. Очарование улиц уходит. Горы тоже лишь горы – скалы, склоны, скудные травы.
Но иногда, чем дальше, тем реже, как приход, как блаженство болезни, ощущаю загадочный мир посланьем твоим, тобою и мной увиденным чудом.
Остальное время город внизу – грязный, а жизнь наверху – пустая.
Уж не Лиса ли виновата?
Звездочеты
Иду за водой, а путь мимо трактира. Там форточка чуть приоткрыта, слышу ругань, или так они говорят?
– Диана замужняя, что ей.
Я замедляю шаги.
– Ну и что? Женатая. Ей тяжелей.
– От тяжести пухнет.
– Не злобствуй. Возьми и спроси у нее, что за средства.
– Щас. Злая ты, Зоя. Сама-то небось.
– У Артура спроси, как он с Дианой.
– Отстань. Отвяжись. Тебе б издеваться.
Гром тарелок. Молчанье. Я ухожу. Верить, не верить. Но все, что сказали, не мне назначалось. Значит, правда. И что? Что тебе? Бог с ними. Пусть себе строят. Васю-мужа жалко, а впрочем, может быть, так ему хорошо.
Диана хихикала, честное имя утратив в глазах не моих. Уронила. Что она уронила? Честь? Предположим.
Диана подходит ко мне. (Её с) «Ну её. Как маленькая, честное слово. Я её пригласила вчера. И что? – Забыла!? Нет, занеслась, вот что. Что с нее взять? Бабочка. Ни разума, ни сердца. Ладно. Лишь бы вреда от нее не было. Ну, она и так ничего не видит. Слон мимо пройдет, не заметит». лова про себя
Диана ручку откинув, в чем-то меня убеждала:
– Артур? (Хи-хи-хм.) Самый умный? Не умный, он – мудрый.
– Так ли?
– Так.
– И как?
– Про жену я не знаю.
(И зря.)
– Но пить-то зачем?
– Ната… аша! Мы разве можем сказать, зачем мы делаем то или это?
– Не можем.
– Ну, то-то же. Ждет меня муж. Приходи к девяти. Я простила. Оденься. Тулупчик могу одолжить. Приходи, луну покажу, если небо.
– А если дымка?
– Если неба не будет, соберемся у Артика все.
Неба не будет, ура. Собрались. Вместе мы, новенький командировочный Виталик пришел, приехав неделю назад к нам работать. Вот комната, стены и стол, стулья, кровать. Вместе мы, и гор как не бывало. Нет ни тумана в окне, ни реки, ни холодного озера взгляда. Нет ничего. Мы, как мы. Мы – одни. Пофыркав, Диана – насморк, наверно, – сказала, что хочет пойти отдохнуть. Шар, ошалев от длиннющих пробежек, – он снизу сегодня поднялся пешком, – водки попив, сделался жарким конем. Пусть без копыт, но ножкой шаркнет на месте, глазом косящим абстрактную даль обведет и скажет: «Други, я глуп… я – нечестен… я счастье свое потерял». И заплачет, конечно, лишь в мыслях. А мы помолчим, поглядим на него, плечами пожмем, конечно, лишь в мыслях. И скажем: «Ну что ты. И так всё в царствии нашем спокойно. Воруют умеренно, пьют незаметно, поют. Поют по ночам, естественно, днем на работе не пьют, не работают, даже, похоже, не спят».
Шар. Ну, это, положим, кто как.
Валя. Положим. Как кто?
Шар. Как самым последним бомжам, нам приходится туго. И цели, и цацки – всё всмятку, и выхода нет.
Валя. Ну, скажешь.
Шар. Неужто неясно. Я – прав.
Валя. Да ладно, что тебе не по нраву?
Шар. Да всё. Где у нас достиженья? Где научного дела полет? Да просто всё валится, всё в негодность стремится. И с каждой минутой всё ближе фиаско любви.
В а с и л и й Фиаско уж тут М… да. Это дело средней глупости. () Выход есть. (муж Дианы. В сторону). (как бы себе). Обращаясь к Шару
Валя. Ну-ну.
Шар. Ты же знаешь, жена в психушке, полгода как. Хорошо. А где справедливость? Конь наш железный кому достается порой? А… Понял, да? А народ в ничтожество впал – не бунтует, пешком, если надо, бежит, на коня не надеясь. Да, знаешь, и харч, да, и харч он ворует. (Обращаясь к Васе.) Пауза.
Постепенно расходятся. Разговаривают трое. Василий сидит молча, рядом с дверью. Я помалкиваю.
В и т а л и к. Кто ОН?
Шар. Кто. Да все тот же. Серафимович.
В и т а л и к. Так нужно смотреть.
Шар. Кому это «нужно»?
В и т а л и к. Конечно, тебе.
Шар. Мне? Мне некогда, да и нет полномочий… А с бычком. Ну, позор. Валя, Валя, барашек ты наш ж е р т в е н ы й. Александров, житель туристского рая на 200 метров ниже нашего ада, беднягу-бычка поймал, сожрал, а на тебя повесили. Тебе что, охота в безденежье вечно? Сколько в месяц от зарплаты?
Валя. ) Да много. А что делать? (Качает головой
Шар. Что! Серафимовича вон, и тебя в серафимскую должность назначить.
Валя. Прожектёр. Гуманоид. В утопию влипнешь.
Шар. А ты в топком болоте увязнешь. Конечно, это у кого как. У меня, например, так. Первыми уходят имена. Слова еще держатся, но из последних сил.
В и т а л и к. Деменуэнция.
Шар. ( Наверно. Надо спешить, иначе всё, что ты прожил, всё, пока ещё сногсшибательно интересное, превратится в хрустящую пыль на зубах. Отмахиваясь.)
В и т а л и к. ( Близкие и знакомые будут только таращить на тебя глаза и не скажут ни слова. Одним словом, вся твоя жизнь, как кошачий хвост, облысеет и сделается неприглядным. подхватывая тему.)
Вася. Хвостатые глупости твои – фигня. Когда учились, был хвостатым, таким и остался. То, что там в воздухе носится, в просторах степных растворяясь, здесь, в капле, виднее. Гляди без выдумок. Некуда деться от горстки своих. Всё известно, что будет, что было, что есть… Поняли?
Шар. Неа.
Шар, про себя ругнувшись, уходит. Валя следом за ним. В комнате остаются Артур, я и два астронома Виталик и Василий. Мне в этом разговоре просто нет места. Я слушаю.
В и т а л и к. Видели вы летающих муравьев? Я расскажу. Большие муравьи организуют себе маленькие крылышки и летают. Крылья у них не всегда, а только в определенный период их жизни, то ли в пубертатный, то ли в предсмертный.