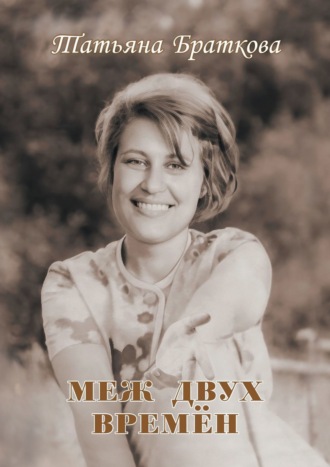
Полная версия
Меж двух времён
В конце 60-х годов я застала поселок именно таким – «настоящих» домов, со скатной крышей, было всего два: фельдшерский пункт и магазин, оба здания общественные, нежилые. Даже школа была с плоской крышей, в ней было два – или три? – не больше – маленьких класса с кривыми подслеповатыми оконцами. Воздух казался видимым – до того он был сер от застоявшегося холода и дымного печного духа. В домах этих шло непрекращающееся, изнурительное сражение с холодом, бесконечное кормление ненасытной железной печки.
Печка из круглой железной бочки из-под горючего – это был первый подарок Северу от цивилизации: до появления бочек все дома отапливались камельками. Зимой – то есть с конца августа по июль – печки топятся практически непрерывно. По нескольку раз в день приходится хозяйке выскакивать из домика «колупать», то есть рубить дрова. Орудовать топором здесь умеют все – и дети, и глубокие старухи.
Комната в домишке была одна, иногда с перегородкой, не доходящей до потолка: топить две печки – непозволительная роскошь. Малышей, как собачек, привязывали длинной веревкой к спинкам кроватей, чтобы не могли, играя, дотянуться до вишнево раскаленной, гудящей в углу печки. Так исстари заведено. Русскоустьинцы всегда посмеиваются: «Все мы на веревке выросли».
Помню большую белую печь – кирпичную, побеленную, единственную «настоящую» печь на весь поселок. Как было уютно, вбежав с адского мороза, прижаться к ней щекой, плечом, распластаться руками по теплым ее бокам. Стояла эта печь в ФАПе – фельдшерско-акушерском пункте, куда меня определили на постой. Когда меня привели, фельдшерица, приезжая, сказала, глядя куда-то поверх моей головы, словно читая какой-то ей одной видимый график: «Кате рожать в марте, Дусе в июне. Все равно будем еще все мыть с хлоркой. Помещу-ка я тебя пока в родилку».
В довольно большой и по случаю отсутствия рожениц едва натопленной комнате находилась, кроме того, чему положено находиться в родилке, обычная кровать – для матери, и маленькая – для новорожденного. Детская была явно не фабричного производства, сквозь грубую коричневую покраску угадывалось, что сработана она топором,
Помню первую ночь – бессонную – в этой комнате. Когда замолк в 12 часов ночи движок, черная, вязкая, как деготь, тьма затопила все вокруг. Весь внешний мир – зримый – исчез, от него остались только звуки. Выл ветер. Где-то далеко изредка взлаивали собаки. За стеной что-то шуршало, словно наждаком водили, я не сразу догадалась, что это ветер пошвыривал о стену сухой жесткой поземкой. В прихожей, отмеряя минуты, срывались с рукомойника и падали в таз тяжелые, будто ртутные, капли. Не верилось, что в нескольких шагах от ФАПа этот дикий, свободно несущийся над пустынной тундрой ветер, перебирает над маленькой почтой обросшие снежным мхом струны антенн и треплет на дверях клуба афишку, обещающую фильм «Тени над Нотр-Дам».
Две недели назад в этой комнате умерла родами женщина. Рожала она четвертого ребенка, ничто не внушало никаких опасений. А роды вдруг случились очень тяжелыми. Была ужасающая пурга, и вертолет, вызванный из Чокурдаха, никак не мог вылететь. А когда он все-таки прорвался, было уж поздно.
Фельдшерица проговорилась, а потом все повторяла, заглядывая мне в лицо: «0х, зря я сказала, бояться теперь будешь».
Нет, это был не тот страх, который имела в виду фельдшерица. Лежа без сна в кромешной тьме, я испытала в ту ночь такое чувство отъединенности от привычного мира, такое одиночество, будто я, как в каком-то фантастическом фильме, выпала из своего времени.
Пробыла я тогда в поселке недолго, не больше недели. Начала портиться погода. Стал крепчать ветер, заструилась, переливаясь через заструги, скручиваясь в тугие жгуты, поземка. Небо еще голубело где-то там, в вышине, но горизонт начало заволакивать белой мглой – поземка завивалась все круче, выше. Затихли, залегли собаки, свернувшись клубком, пряча носы под теплый хвост.
За мной прибежали с почты – звонили из Чохурдаха, велели собираться, из Чокурдаха вышел рейс Индигирторга, может быть, последний на много дней: получено пурговое предупреждение.
Шли годы. Давно уже я вернулась из Якутии в Москву. Писала, ездила по стране, встречалась с самыми разными людьми. Полярный ничем не напоминал о себе. Никогда нигде, ни в одной газете – ни строчки. Ни одного человека, побывавшего в тех краях. Он, словно и вправду погрузился в тундровые снега. Иногда думалось – а был ли он на самом деле? Или пригрезилось? Но порой вдруг где-нибудь на гребне могучей плотины или посреди гигантского цеха – только прикроешь глаза – возникали, как видение, легкие нарты, пробирающиеся где-то там, самым краешком земли в белой снежной круговерти, собаки, налегающие на постромки, человек в заиндевелой кухлянке.
Врешь ты, врешь, мальчишечка,Меня омманывашь.Казань-городочек на костях стоит,Казанска реченька кровью протекла,Мелки ручеечки горючими слезьми,А по бережку – не камешки, буйны головушки,Все солдацкие да молодецкие…Во городе то было, во Астрахани,Появился детина, незнамой человек.Второй раз в ту же реку…
Прошло почти десять лет…
И вот я почти с суеверным чувством, стоя посреди маленького тесного зальца Чокурдахского аэропорта, слышу голос, буднично хрипящий в динамик: «Пассажиров, следующих до Полярного, просят пройти на перрон для посадки в вертолет».
Плывет внизу белая вечная тундра, и вертолет кажется мне машиной времени. Что ждет меня там, на земле? Что произошло с поселком за эти годы? Как он выглядит? Я могу узнать об этом сейчас же – вертолет полон пассажиров. Молодая мать унимает раскапризничавшуюся дочку. Двое мужчин ревностно оберегают огромную хозяйственную сумку со строгими рядами пивных бутылок. Женщина, закутанная в платок, бомбардирует новостями солдатика, летящего домой на побывку: «Катя опять девочку родила. Славку тоже в армию забрали – еще в мае. Зинка замуж вышла в Чокурдах. Шура все болеет». Обычные житейские дела. Не спросишь же, в самом деле: «А что у вас изменилось в поселке с одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого года?»
Вертолет начал снижаться. Быстрее понеслась навстречу тундра – белая, ровная, без единого темного пятнышка, только змеились по ней белые ленты, еще белее окружающей их белизны: реки, ручьи, протоки, скованные льдом и засыпанные снегом, хотя по календарю было еще начало октября. Линия горизонта стремительно поползла вверх. Вот уже не стало видно дальней сопочки-едомы, скрылось озерцо правильной овальной формы, белеющее на тундре, словно блюдо на парадной белой скатерти.
И вдруг я увидела дом. Он вызывающе желтел среди этой белизны своими стенами, обитыми такой свеженькой вагонкой, что, кажется, сюда, на высоту, поднимался запах смолы и древесины и только промерзшие по железным швам стенки вертолета мешали его вдохнуть. Это был настоящий дом. С двускатной крышей. С большими окнами. С высоким крыльцом. И, что самое потрясающее, он был двухэтажный. Наверное, поэтому я увидела его первым. Рядом с ним был второй, тоже новый, но одноэтажный. Третий, четвертый, пятый… Вертолет садился на краю совершенно не знакомого мне нового поселка. Я не знала еще, что именно в этом единственном пока в поселке двухэтажном доме и доведется мне жить в этот свой приезд. Что в следующий раз я буду ехать уже не просто в Полярный, а именно сюда, где ждет меня отныне «моя комната».
Выйдя из вертолета, я растерянно оглядывалась по сторонам, ничего не узнавая и поражаясь произошедшим переменам. У вертолета собралась целая толпа. Наш рейс был первым чуть не за две недели – держалась нелетная погода, и люди сбежались, кто встречать близких, улетевших по каким-то делам в Чокурдах и застрявших там так надолго, кто – узнать, какие фильмы привезли для клуба, а кто и просто полюбопытствовать, кто прилетел и зачем. Тут-то и подошел ко мне пожилой человек, росточку невысокого с удивительно голубыми глазами – такие глаза бывают, пожалуй, только у детей и стариков. Что-то слегка колыхнулось в глубинах моей памяти в ответ на этот доброжелательный и любопытствующий взгляд.
– Здравствуйте, уважаемая, – обратился он ко мне с несколько даже изысканной вежливостью, которая встречалась прежде у стариков в русских наших деревнях, да и перевелась – вместе с ними. – Вы к кому будете?
Я назвалась, напомнила о своем коротком визите почти десятилетней давности.
– То-то я гляжу – вроде лицо знакомое, – обрадовался он так, будто именно меня и пришел встречать к вертолету. – В поссовет приходила? Командировку кто тогда отмечал? Я! – засмеялся он с хрипотцой старого курильщика.
И тут память моя словно скинула многолетние пласты и «отдала» и маленькую каморку поссовета, и этого человека, тогда еще совсем нестарого, – за столом. В высоких мягких валенках, но в стареньком аккуратном пиджачке и строгой рубашке – потому как при должности – председатель поссовета. Отдала и смех его хрипловатый: «Э-эх, в председатели желающих мало, за все ответ, сегодня милиционер, завтра – ассенизатор». И имя его отдала – Михаил Иванович Чикачев.
– Отдыхаю теперь. Заслуженный отдых. И старуха моя отдыхает. Пенсионе-е-ры! – подмигнул он озорно и, подхватив мою сумку, сказал тоном, исключающим всякие возражения, уже без всяких церемоний перейдя на ты, словно подчеркивая, что мы – давнишние знакомые: – У нас жить будешь. Хоромы у нас теперь – во! – кивнул он в сторону двухэтажного дома.
Хоть и не спится на новом месте, и просыпаюсь рано, но по особенной какой-то тишине чувствую, что в квартире одна. Михаил Иванович «отдыхает»: он с рассветом ушел на собачьей упряжке в тундру, на подледный лов рыбы. Сестра его двоюродная, Матрена Михайловна, которая ребенком осталась без родителей и которой Михаил Иванович, тогда совсем еще молодой парень, заменил отца, спозаранку наводит чистоту в фельдшерском пункте. Место уборщицы в ФАПе считается весьма престижным в поселке, где традиционно плохо с рабочими местами для женщин. Матрена получила его много лет назад, выдержав своеобразный конкурс, в аккуратности и чистоплотности ей не оказалось равных. Она прибирала еще в старом фельдшерском пункте, где я жила в прошлый свой приезд, и мы с ней признали друг друга, едва мы вчера с Михаилом Ивановичем переступили порог их квартиры. Младшее поколение Чикачевых жизнь увела из поселка. Дочка Михаила Ивановича живет в Олекминске, сын – тот самый Славик, о котором я слышала еще в вертолете и которого забрали в армию «еще в мае». Матренина дочка Леночка учится в Магаданском педагогическом институте.
– Старикуем одни, – сказал вчера Михаил Иванович за бесконечным вечерним чаем. Женщины – Матрена и жена Михаила Ивановича тетя Шура – согласно закивали.
После домишек, сохранившихся в моей памяти, квартира поражает. Пожалуй, и в Москве мало кто отказался бы от такой. Ну, за исключением, конечно, такой детали, как «удобства во дворе». В квартире три комнаты и огромная, метров шестнадцать, кухня. Прихожих – умрите от зависти обитатели блочных домов! – три. Одна – холодная, в нее попадаешь с улицы. Она застеклена, как дачная веранда, отсюда уходит вверх, на второй этаж, лестница. Здесь стоят какие-то бочки, что-то висит, лежит – развернуться есть где. Вторая – уже в квартире. Просторная ниша для вешалки, за занавеской – «ванная»: умывальник на стене и две огромные – чуть не в рост человека – бочки для воды. И уже из нее, открыв дверь, попадаешь в третью, собственно квартирную прихожую, куда выходят все комнаты. Просторно, светло, чисто – чувствуется матренина рука. Полированные шкафы, низкая тахта в большой комнате, проигрывателъ на тумбочке, за стеклом буфета посверкивают чашки, рюмочки, фужеры. Рычит у соседнего дома машина-водовозка, протянув длинный хобот внутрь дома, где стоят такие же железные бочки. Булькает вода в батареях центрального отопления. Где-то не то наверху, не то у соседей за стеной демонически хохочет Алла Пугачева,
В кухне на столе мне оставлен завтрак: крепчайший северный чай, пирог с омулем, куски жареного озерного чира. Только эта рыба на столе да белая тундра за окном, где-то там, бесконечно далеко сходящаяся с небом, напоминают о том, что это – Крайний Север, тот самый «предел человеческого жительства».
Я хожу по поселку и никак не могу привыкнуть к мысли, что это – Полярный. Новый фельдшерский пункт. Новый магазин. Новые школа и детский сад. В поссовете еще кипят вовсю отделочные работы, хотя председатель уже вполне может занять свое место в кабинете за письменным столом, а секретарь поссовета Светлана Черемкина уже обжила свое рабочее место и деловито стрекочет на пишущей машинке.
Главное мое потрясение – школа-восьмилетка. Иду широким коридором, читаю таблички на дверях: химический кабинет, кабинет биологии, кабинет труда. Таблицы, диаграммы, учебные пособия. Вся школа занимается в одну смену, но в поселке, где детям пойти в общем-то некуда, особенно зимой, она становится средоточием ребячьей жизни.
Вот и сейчас – уроки кончились, но из-за приотворенной двери класса слышны голоса – там занимается физический кружок. В широком коридоре ребята расставляют столы для пинг-понга. В углу, возле батареи центрального отопления, на физкультурных матах устроилась группка девчонок, смеются, шепчутся о чем-то своем.
Меня привели в класс, где собрали младших: «Вы должны им что-нибудь рассказать, у нас приезжие люди такая редкость». Ребята успели после уроков сбегать домой и пришли трогательно нарядные, девочки с белыми бантами в волосах, в белых передничках. Рассказать попросили про метро. Почти никто из них дальше Чокурдаха пока не бывал.
На шкафу лежало что-то огромное, похожее на толстую, выбеленную солнцем корягу.
– Это же бивень мамонта, – очень буднично объяснил мне мальчонка-первокласник. – Конечно, попадаются в тундре. – И удивился моему удивлению: «А вы что ли никогда не видали?»
Первое мое узнавание – клуб. Клуб все тот же. Лет двадцать назад этот клуб был единственным местом на земле, где можно было увидеть традиционный русскоустьинский танец омуканчик. Теперь омуканчик уже не увидишь. Правда, можно застать зрелище, тоже достаточно необычное – как, собравшись вечерком, взрослые люди и даже старики азартно «чурятся» – играют в жмурки.
Дальше, за клубом – то, что осталось от старого Полярного. Клуб стоял на самом дальнем краю поселка и теперь оказался как бы на границе между старым и новым.
Словно почуяв обреченность старых хлипких домишек, пошла в наступление на них Индигирка. Даже зимой, скованные морозом, угрожающе выглядят береговые обрывы. Во время весенних паводков огромные куски берега рушатся в воду, линия берега отодвигается все больше и больше вглубь поселка.
В тех домиках, что подальше от реки, еще живут кое-где, тянет дымком из труб, приготовлены у порога оленьи шкуры, чтобы закрыть на всю долгую полярную ночь низкие оконца. Но недолго, видно, им уж осталось.
Но я бы обязательно оставила хоть один такой домик – как памятник великой человеческой выносливости. В чудовищно трудных условиях, отрезанные от всего мира, предоставленные судьбе, люди не дали ледяному дыханию тундры задуть теплый огонек жизни не год, не десять, не двадцать лет – три с половиной столетия.
«Хочешь жить – терпишь…»
Пожалуй, конец семидесятых – начало восьмидесятых годов можно считать наиболее благополучными в жизни поселка. Шло строительство, обсуждался вопрос о возведении причала, в магазине висели на плечиках финские костюмы, при мне жители как-то устроили «выволочку» представителю торга за то, что редко возят «свежее» – овощи и фрукты. В начале 80-х в поселке появилось долгожданное телевидение.
Но именно в эти годы, когда так неузнаваемо изменился и поселок, и сама жизнь здесь, вдруг тревожно зазвучал вопрос: что будет с Полярным через 10—15 лет?
Дело в том, что Полярный, в сущности, поселок сугубо функциональный. Это поселение охотников за песцом, хотя из 265 его жителей в начале восьмидесятых годов кадровых охотников было всего 22 человека. Остальные, если не считать детей и пенсионеров, – это люди, охотников обслуживающие: работники дизельной станции и пекарни, почты и клуба, няни и воспитательницы яслей и детсада, учителя, фельдшер, библиотекарь, продавец.
Если представить себе, что завтра в поселке не станет охотников, работа большинства этих людей, что называется, замкнется на себя, существование поселка потеряет всякий смысл.
И вот к началу 80-х годов стало ясно, что охота стремительно «стареет», больше половины кадровых охотников составляли люди уже пенсионного или предпенсионного возраста. Молодое пополнение было ничтожным: молодежь не хотела «идти в охотники».
Для того чтобы понять причины этого, нужно представлять себе, что это за труд – труд тундрового охотника.
Когда-то и пресса, и телевидение «перекармливали» нас рассказами о «человеке труда». И пусть чаще всего это сопровождалось трескучими фразами о соцсоревновании и выполнении плана, мы – хотели этого или нет – получали представление о том, как льют сталь и укладывают бетон, как работает буровая установка и ткацкий станок. Читая сегодняшние газеты и глядя на экран, начинаешь забывать, что большинство людей по-прежнему работает в забоях и цехах, по-прежнему строит и пашет, а не бегает с пистолетами. Старшие еще помнят. Но подрастает поколение, рискующее никогда не узнать, как выглядит человек работающий. А десятки профессий для него будут лишь знак, пустой звук, не наполненный никаким содержанием.
Что же говорить о таком действительно редком труде, как труд охотника-песцелова. Но не поняв все трудности, опасности, а главное – всю несовременность этого труда, в котором ничего не изменилось не только за десятки, но и за сотни лет, не понять да конца проблем такого огромного региона России как Крайний Север. И тех, которые начали подниматься в полный рост 10—15 лет назад, и тех, которые встали перед Севером сегодня.
Сколько раз ни приходилось мне рассказывать о Русском Устье, об охотниках мне неизменно задавали вопрос: а как они песца стреляют? Могущество стереотипа: охотник – значит ружье. Но при охоте на песца ружьем не пользуются вовсе. Промышляют песца на севере с тех времен, когда у охотников ружей вовсе не было, «методика», если можно так выразиться, способ охоты сложились в «досельные» времена и никаким изменениям практически с тех пор не подвергались. Прежде их и не именовали охотниками, именовали промышленными людьми или просто промышленниками. И если посвятивший себя исследованию русских поселений на Крайнем Севере Якутии, научный сотрудник Якутского института проблем народов Севера, уроженец Русского Устья Алексей Гаврилович Чикачев пишет в своей книге: «Мой отец был промышленником», – это вовсе не значит, что отец его владел заводом или фабрикой. Он был профессиональным охотником-песцеловом. Потом они привыкли к тому, что их называли охотниками, сами говорят «охотучасток»» или «охотизбушка». Но редко услышишь, чтоб сказали «охотиться на песца». Песца промышляют или, как здесь говорят, упромысливают.
Конечно, ни один охотник не выйдет в тундру безоружным: тундра есть тундра, всякие могут в ней быть встречи. Хотя охотникам волки, например, не докучают, предпочитают крутиться вокруг оленьих стад.
Все угодья закреплены в постоянное пользование за определенным охотником. И охотничьи участки, и участки, где ловят рыбу – «пески», как их здесь называют, передаются, как правило, по наследству, так же, как сами орудия лова, так называемые пасти. Пасть стоит в тундре всегда. В нерабочем состоянии – это узкий трехстенный короб и лежащее сверху тяжелое двухметровое бревно. Но перед началом охотничьего сезона охотник объезжает «пастники» – места, где стоят ловушки, и «настораживает» пасти, приводит их в состояние «боевой готовности». «Настороженная» пасть издали напоминает пушку с поднятым стволом: бревно – гнеток или давок, как его здесь называют, приподнято с одного края и специальным образом закреплено. Изменилась за века разве что одна деталь – сторожевой волосок: раньше натягивался конский волос, говорят, иногда и женский, а теперь – леска. Все лето охотник разбрасывает у пастей приманку – прикармливает, «приваживает» песца. Зимой песец по привычке лезет в короб – за приманкой – резко пахнущей, выдержанной в ямах «кислой» рыбой, и задевает волосок. Бревно падает, убивая зверька своей тяжестью.
Когда-то пасть была единственным орудием лова. Позже появились капканы. Поставить капкан, конечно, намного проще, пришлые «браконьерят», конечно, с капканами. Но охотники всегда предпочитали пользоваться пастями, хотя мороки с ними немало, и сооружают, и ежегодно ремонтируют они пасти летом, доставляя необходимые для этого бревна и доски на лодках. Прежде пользовались и лошадьми, но теперь лошадей нет, а получить для этих целей в совхозе трактор или вездеход всегда было проблемой – вечно не хватало или самих тракторов, или горючего, да и гонять трактор по тундре, особенно на отдаленные участки, даже при тогдашних ценах на горючее, получалось весьма накладно. Может, теперь и с облегчением вспоминают, что обходились без трактора. Страшно подумать, во что превратилась бы тундра, если бы тракторов и вездеходов было бы в достатке, и сновали бы они все летнее время по участкам: ведь след от единожды прошедшего по тундре трактора «не заживает» 20—25 лет.
И хоть считается охота занятием сезонным, летом охотник занят ничуть не меньше. И все же предпочитает возиться с пастями, чем пользоваться «железом». Объясняют они свою нелюбовь к капканам тем, что зверек, попавший в него, долго бьется, шкурка портится от бескормицы – ведь охотник, поставив капкан, возвращается к нему через много дней. Мне показалось, что охотникам еще, что называется, претит необходимость приносить страдания зверьку, что неизбежно, если жертва попадает в капкан. Пасть убивает сразу. Конечно, занятие охотой не располагает к сантиментам, но склонности к жестокости я у людей этой профессии никогда не встречала. Возможно, есть в этой привязанности к традиционному «оборудованию» некая доля обыкновенного консерватизма. Так или иначе, но на участке каждого охотника пастей обычно 250—300, а капканов – несколько десятков, да и то поближе к зимовью, куда можно наведываться почаще.
Рано утром, так и тянет написать на рассвете, но рассвета никакого нет, потому что половину охотничьего сезона стоит ночь, а в остальное время светает поздно и ненадолго, охотник выезжает на собачьей упряжке из своего зимовья в тундру. В Русском Устье ее называют необычным словом – сендуха. Сендуха – это не просто тундра, это название как бы вмещает в себя весь окружающий природный мир.
Целый день едет он по определенному маршруту – путику, проверяя пасти. Легко сказать – по маршруту! Какой маршрут может быть в голой, ровной тундре? Любой из нас мигом заблудился бы в этой белой бесконечности, как только скрылось бы с глаз зимовье. Однако охотник прекрасно ориентируется в этом пустынном пространстве, хотя никто традиционно не пользуется компасом. На вопрос – почему? – только пожмут плачами: не принято. Ориентируются, как говаривал Прокопий Семенович Варякин, первым посвятивший меня во все премудрости охотничьего промысла, «наощупь ума»: по звездам, по снегу, по ветру. Звезд здесь на небе, наверное, раз в десять больше, чем у нас в густонаселенной средней полосе: воздух необычайно чист и прозрачен, ведь тундра ни зимой ни летом не знает, что такое пыль.
Помню, в самый первый мой приезд в Полярный, вышли мы как-то с Прокопием Семеновичем из его домика. Дверь в том домике была низенькая, выходить надо было согнувшись, и именно поэтому, может быть, как только вынырнули мы наружу и распрямились, сразу несказанной красотой обвалилось на нас ночное небо, усыпанное звездами и видное необычно широко – от горизонта до горизонта. И не надо было закидывать голову, чтобы смотреть на звезды – огромные, неподвижные, словно прибитые к черному своду, они были везде – не только над головой, но и впереди, и сбоку, и сзади, И прямо над нами, словно главный, центральный гвоздь – Полярная звезда, словно на ней и держалось все это великолепие. Может быть, это ощущение и породило имя, которым зовут ее здесь: Кол-звезда. А чуть в стороне, в совершенно непривычном для нашего глаза изгибе, зачерпывал черное вино неба ковш Большой Медведицы. Вот по тысячам этих звезд, названий большинства которых они не знают, прекрасно угадывают охотники направление, по которому должна пролечь их невидимая дорога.
Впрочем, не так уж беспросветно темна тундра в этой беспредельной полярной ночи. Снег отражает и свет звезд, и ярким голубоватым светом заливает тундру луна. Как ни парадоксально, но в зимние месяцы в ясную погоду в ночную пору в тундре даже светлее, чем в дневные часы, Есть у полярного неба еще один небесный свет, неведомый жителям других широт – северное сияние. Те, кому посчастливилось увидеть это волшебное зрелище, никогда не забудут этого чуда.
Прозрачные складки гигантского занавеса, голубовато-серые, блестящие, как ртуть, льются откуда-то сверху. Они струятся, как тонкая ткань под легкими порывами ветра, невесомо и беззвучно, то, вспыхивая ярким, почти синим светом, словно выхваченные из черноты неба невидимыми прожекторами, то тускнея и делаясь серо-прозрачными, как дым.

