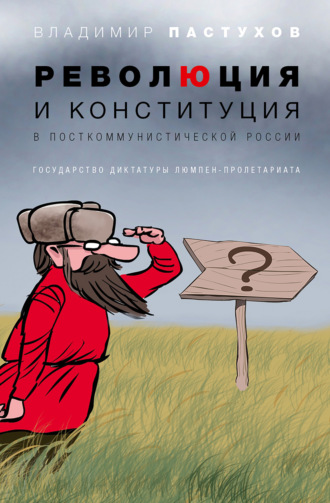
Полная версия
Революция и конституция в посткоммунистической России. Государство диктатуры люмпен-пролетариата
Парламентаризм. Перемена самих оснований российской государственности, возникновение финансово и политически самодостаточных субъектов внутри нее потребует нового, более гибкого способа их интеграции, позволяющего удерживать эти субъекты в рамках единого политического пространства, предотвращая распад России. С этой задачей больше шансов имеет справиться парламентская или президентско-парламентская республика, поскольку они предлагают более гибкий механизм представительства и согласования местных и общих интересов. Переход к ней представляется мне закономерным следствием децентрализации и федерализации российской государственности.
Соединенные Штаты Евразии
С большой долей вероятности можно предположить, что завершение реставрационного посткоммунистического проекта Владимира Путина, когда бы это ни случилось – через несколько лет или через несколько десятилетий, – будет свидетельствовать о выходе русской революции на финишную прямую. На этом завершающем отрезке пути она должна будет доделать ту работу, которую начала сто лет назад. Парадоксальным образом это приведет не столько к возвращению в исходную точку, сколько к реанимации и перезапуску «неосоветского проекта» с его формально продекларированной, но так и не реализованной на практике политической триадой – республика, федерализм, парламентаризм. Если России суждено прожить еще одну политическую жизнь, то в этой жизни она будет Евразийским союзом.
Русская революция и сегодня никуда не делась. Просто она существует в отрицательной форме, как русская контрреволюция, активная фаза которой началась в 2013–2014 годах. В практическом плане в связи с этим имеется два глобальных сценария развития России в XXI веке – торможение или ускорение революции.
Первый, наиболее вероятный сценарий – это проект «управляемая контрреволюция». В рамках этого сценария власть с большей или меньшей эффективностью будет продолжать делать то, что она делает сегодня, удерживая ситуацию под контролем методом «кнута и пряника», чередуя заморозки с оттепелью, репрессии – с помилованиями, пока в конце концов не сорвется в неуправляемый штопор революции. Чем позже это произойдет, тем меньше у России будет шансов сохраниться как единое суверенное государство.
Второй сценарий, гораздо менее вероятный, но теоретически возможный, предполагает осознанный переход к «управляемой революции», то есть возвращение к логике перестройки после двух неудачных попыток. В практическом отношении это означает запуск радикальной конституционной реформы, на выходе из которой Россия должна стать не меньше и не больше как Соединенными Штатами Евразии, то есть реально федеративной и парламентской (парламентско-президентской) республикой. Это чрезвычайно трудный и рискованный путь, требующий невероятного напряжения сил всего российского народа и большого мужества со стороны политических элит, но это единственный путь, который позволит русской революции совершить мягкую посадку, а не врезаться на полном ходу в землю.
Глава 4
«Смерть Сталина» – несмешная история революции
Многообразие «судьбоносных поворотов» российской истории в XX веке может быть интерпретировано как последовательность различных стадий растянувшегося более чем на полтора столетия внутренне единого революционного процесса, представляющего собой череду «революций» и «контрреволюций», перемежаемых достаточно длительными «плато стабильности». При этом у каждого из значимых периодов в этом диапазоне есть своя историческая предтеча, своего рода последняя точка отсчета.
Современные российские политические реалии непосредственно произрастают вовсе не из 1993-го (как многим кажется) и даже не из 1991 года, а из событий далеких весны-лета 1953 года. Эти события являются «недооцененным активом» российской истории. Значение их выходит далеко за рамки представлений о «политическом перевороте», в которые их упорно пытаются втиснуть в течение полувека. Это переломный пункт советского периода российской истории, и он требует соответствующего к себе отношения.
Выражаясь современным языком, Сталин умер, не осуществив операцию «Преемник». После его смерти на вершине пирамиды власти оказались три вождя, каждый из которых в равной степени мог претендовать на роль лидера: Берия, Маленков и Хрущев. При этом с чисто «практической» точки зрения Хрущев имел наименьшие шансы, но именно он и стал победителем. Это тем более удивительно, что победил он человека, которому очевидно уступал как по своим волевым, так и по интеллектуальным качествам. Впрочем, морально он его все-таки превосходил.
Общепринятые представления о Берии как о примитивном похотливом садисте не очень соответствуют действительности. Так же далеки от реальности представления о Хрущеве как об инициаторе «десталинизации». Все обстояло как раз наоборот. Буквально через несколько дней после смерти Сталина Берия, возглавивший объединенное МВД-МГБ, создал внутри ведомства четыре комиссии по пересмотру, как сейчас бы сказали, самых «резонансных» дел того времени, в том числе знаменитого «дела врачей», «дела Михоэлса и Еврейского антифашистского комитета» и других.
Более того, Берия стал слать в Президиум ЦК КПСС одну за другой докладные записки с информацией о «вскрытых» нарушениях законности, требуя принять срочные меры по их исправлению. Члены Президиума ЦК во главе с Хрущевым и Маленковым оказались совершенно не готовы к этим инициативам и пассивно им сопротивлялись. Чтобы подстегнуть Президиум ЦК к действиям, Берия начинает дублировать информационные сообщения, издаваемые от имени партии, собственными «пресс-релизами», издаваемыми от имени МВД, которые имеют гораздо более радикальное звучание.
Вот что пишет по этому поводу в своих воспоминаниях Павел Судоплатов: «Сообщение МВД для печати об освобождении арестованных врачей значительно отличалось от решения ЦК КПСС. В этом сообщении Берия использовал более сильные выражения для осуждения незаконного ареста врачей. Однако его предложения по реабилитации расстрелянных членов Еврейского антифашистского комитета были отклонены Хрущевым и Маленковым. Члены ЕАК были реабилитированы лишь в 1955 году. Предложения Берии по реабилитации врачей и членов ЕАК породили ложные слухи о его еврейском происхождении и о его связях с евреями. В начале апреля 1953 года Хрущев направил закрытое письмо партийным организациям с требованием не комментировать сообщение МВД, опубликованное в прессе, и не обсуждать проблему антисемитизма на партийных собраниях»[2].
Этим, однако, активность Берии не ограничилась. Практически не делая паузы, он выступает с целым комплексом инициатив, которые историки окрестили «реформами Берии». Помимо таких «либеральных» мер, как массовая амнистия и пересмотр знаковых уголовных дел, они включали ограничение партийного вмешательства в государственную жизнь и особенно в управление экономикой; объединение Германии и в целом свертывание программы строительства социализма в Восточной Европе; ограничение насильственной русификации национальных окраин и другие.
С высоты сегодняшнего дня видно, что наиболее радикальные предложения «реформы Берии» намного опередили свое время и предвосхитили внутриполитические и внешнеполитические инициативы Горбачева. Тем более интересно отметить, что формально Берия был отстранен от власти не столько за произвол и репрессии, сколько именно за эти начинания, отвергнутые партией как отступление от сталинизма и либерально-буржуазное перерождение.
Впрочем, картина была более сложной. Если судить по стенограмме внеочередного Пленума ЦК, состоявшегося 2–7 июля 1953 года, выдвинутые против Берии обвинения были противоречивы. С одной стороны, Берии в вину были поставлены именно его радикальные инициативы, оцененные соратниками как буржуазные. С другой стороны, главное обвинение, выдвинутое против Берии, все-таки касалось попытки узурпировать власть в стране при помощи выведенных из-под партийного контроля правоохранительных органов[3].
Несмотря на справедливое отвращение, которое вызывает к себе личность Берии, чтение стенограммы «партийного судилища» над ним оставляет не менее тягостное впечатление. Несколько десятков функционеров с безвозвратно утерянной способностью к самостоятельному мышлению обвиняли Берию во всех смертных коммунистических грехах, ставя под подозрение его вполне разумные с точки зрения современного русского человека начинания. По сути, победа Хрущева над Берией была победой ханжества над цинизмом.
Парадокс состоит в том, что Берия оказался в высшем руководстве страны единственным в своем роде «свободным» человеком. Полностью нравственно разложившись, он смотрел на жизнь с практичностью мясника, избавленного от любых иллюзий, в том числе и «отряхнувшего с ног своих» прах коммунистической мифологии. Он был прагматиком и презирал догматиков. Обладая стратегическим талантом и незаурядной смелостью, он уже только в силу занимаемого им положения был лучше других информирован о том, что экономика страны подорвана, и о том, что в затравленном обществе зреет глухое раздражение. По этим же причинам он не мог не знать и о своей «непопулярности» и поэтому решил сыграть на опережение, проявив первым инициативу в деле «десталинизации». Он готов был пойти на уступки в идеологии, чтобы сохранить свою главную привилегию – право творить произвол, право осуществлять расправу над любым оппонентом без суда и следствия, право внушать страх.
Хрущев, напротив, был типичным представителем того большинства, которое стало жертвой почти полувековой непрерывной идеологической обработки и в сознании которого здравый смысл уродливым образом смешался с коммунистическими догматами. Дело не только в том, что Хрущев и другие члены руководства панически боялись Берии, но и в том, что они реально не понимали смысла его поступков. Особенно ярко это проявилось в полемике по вопросу об объединении Германии, которую Берия готов был «отдать» в обмен на гарантии ее нейтралитета. Тут было все: и догматическое тупоумие (Молотов: «Мы глаза таращили… какая может быть в глазах члена Политбюро ЦК нашей партии буржуазная Германия»), и озарения ограниченного крестьянского практицизма (Хрущев: «Берия говорит, что мы договор заключим. А что стоит этот договор? Мы знаем цену договорам. Договор имеет силу, если подкреплен пушками»).
Участники Пленума ЦК, решавшие судьбу Берии, уже давно потеряли способность воспринимать мир таким, каков он есть. Только когда они говорили о своем животном страхе перед Берией, они выглядели натурально. Они во всем уступали Берии, кроме одного – на их стороне была историческая справедливость. Их объединяло желание ограничить произвол, хотя бы потому, что он грозил пожрать их самих.
Конец большевистской революции
Естественно, возникает вопрос: как такое скудоумное, косноязычное и трусливое «добро» могло победить столь изощренное и всесильное «зло»?
В руках у Берии были все козыри, и в последние месяцы он даже не считал нужным это скрывать, позволяя откровенное хамство и грубость по отношению к соратникам. Мало того что он контролировал всепроникающую службу госбезопасности, не обремененную никакими ограничениями, так он еще и превосходил своих оппонентов силой воли и ума, умением не только строить планы, но и добиваться их реализации. Берия обладал всеми необходимыми для завоевания и удержания власти материальными ресурсами, и в его подчинении уже находился мощный аппарат власти, созданный по его образу и подобию.
Смещение Берии на первый взгляд кажется алогичным. Вообще переворот 1953 года воспринимается как какая-то случайная, «верхушечная заварушка», в которой Хрущев чудесным образом «переиграл» Берию. Однако то, что кажется иррациональным с политической точки зрения, оказывается рациональным с точки зрения исторической. Победа «слабого» Хрущева выглядит, как это ни парадоксально, исторически более оправданной, чем победа «сильного» Берии.
Чтобы понять это, надо просто тщательнее вглядеться в то, что реально было предметом спора. Если отбросить все наносное и случайное, то можно увидеть, что речь шла не столько о столкновении между Берией и Хрущевым лично, сколько о столкновении двух политических курсов.
Эти курсы различались между собой отношением к насилию и праву. Для Берии насилие оставалось универсальным методом решения стоящих перед обществом задач, независимо от того, является ли такой задачей «строительство коммунизма» или «разрушение коммунизма». Хрущев представлял тех, кто выступал за ограниченное применение насилия, он хотел держать джина в бутылке. Причем он подсознательно стремился не столько к сокращению репрессий (тут Берия был даже более радикален в своих «популистских» предложениях), сколько к введению в социальную практику механизмов, которые ставили бы произвол в определенные политико-правовые рамки.
Показательной является дискуссия о судьбе Особого совещания при МВД. Вот как излагает свою позицию на Пленуме ЦК Хрущев: «Он [Берия] внес предложение, что нужно ликвидировать Особое совещание при МВД. Действительно, это позорное дело. Что такое Особое совещание. Это значит, что Берия арестовывает, допрашивает и Берия судит… И что же он нам голову морочит? Он пишет, что надо упорядочить это дело, но как упорядочить? Сейчас может особое совещание выносить свое решение с наказанием до 25 лет и приговаривать к высшей мере – расстрелу. Я предлагаю высшую меру – расстрел – отменить и не 25 лет, а 10 лет давать. Это значит дать 10 лет, а через 10 лет он может вернуться и его опять можно будет осудить на 10 лет. Вот вам самый настоящий террор, и будет превращать любого в лагерную пыль… Я думаю от этого [террора] мы, видимо, не откажемся на будущее, но надо, чтобы это было исключением и чтобы это исключение было по решению партии и правительства, но не закон, не правило, чтобы это делал министр внутренних дел, имея такую власть, терроризируя партию и правительство»[4].
В этой цитате весь Хрущев – он еще готов терроризировать весь народ, но уже не может допустить, чтобы кто-то терроризировал «партию и правительство»…
И тем не менее Берия мог предлагать тысячу правильных решений по всем актуальным вопросам внутренней и внешней политики, он мог быть в сто раз убедительнее и мощнее, чем все его оппоненты, вместе взятые, но он не предлагал того, в чем измученное полувековым террором общество нуждалось более всего, – он не предлагал гарантий защиты от произвола.
Хрущев мог казаться шутом и петрушкой (а часто и быть им); он мог повторять за Берией его ходы (что, собственно, и случилось в дальнейшем при разоблачении «культа личности»); он мог быть непоследовательным и смешным, но он предлагал то, что объединяло тогда народ от простого колхозника до члена Политбюро ЦК. Он выступал против оголтелого насилия.
Таким образом, если посмотреть на эту борьбу под более широким углом зрения, то речь шла о продолжении или завершении революции. Для Берии насилие оставалось универсальным методом решения экономических, социальных и политических задач. Он был готов пожертвовать знаменем революции ради сохранения насилия. Для Хрущева насилие было уже хоть и необходимым, но все-таки злом, которое по возможности надо было вводить в рамки. Он предпочитал сохранить выцветшее знамя революции, пожертвовав насильственным духом этой революции. Вряд ли сами Хрущев и Берия понимали вполне, носителями каких идей они выступают, но это не меняет существа дела.
В этой связи вызывает особый интерес оценка, которую дал событиям 53-го года Ричард Пайпс, рассматривавший хрущевский переворот как контрреволюционный. Он писал: «Можно даже сказать, что революция завершилась лишь со смертью Сталина в 1953 году, когда его преемники нерешительно и с оговорками взяли курс на политику, которую можно было бы охарактеризовать как контрреволюцию сверху»[5].
Вопреки словам популярной в советское время песни о том, что «есть у революции начало, нет у революции конца», у революции есть как начало, так и конец. В одинаковой степени рискует и тот, кто пропустил начало революции, и тот, кто не заметил ее конца. Стремление продлить революции жизнь чревато быстрой и разрушительной катастрофой. Те, кого сегодня впечатляют несбывшиеся планы Берии, должны понимать, что эти начинания были в любом случае обречены на провал, потому что предполагали искусственное затягивание революции.
Реформы Берии намечали контуры некоего деидеологизированного террора. С одной стороны, они обозначали движение в направлении определенного идейного высвобождения из-под гнета коммунистической догмы. С другой стороны, государственный произвол становился при этом самодостаточным и самодовлеющим, не нуждающимся ни в каком дополнительном обосновании никакими «высшими материями».
Берия предлагал существенно ослабить роль партии, но вместе с тем и влияние идеологии на общественную и государственную жизнь в целом. Эта «абстрактно-либеральная» новация в тех конкретно-исторических условиях дала бы, скорее всего, совершенно неожиданный и печальный результат. Очень скоро возник бы вакуум власти, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Возможно, недостаток «коммунизма» Берия попытался бы заменить избытком национализма. Но, скорее всего, просто возросла бы роль денег. Насилие и коммерция быстро нашли бы друг друга. Произвол стал бы менее систематическим, но зато более подлым, меркантильным и персонализированным. «Деидеологизированная» власть не смогла бы остаться монолитной, и внутри нее образовались бы многочисленные кланы, борющиеся между собой за контроль над «финансовыми потоками». Так что статья о превращении воинов в торговцев[6] в принципе могла бы увидеть свет уже лет пятьдесят тому назад…
Приход к власти Берии спрямил бы «пути истории», ускорив неизбежное разрушение советской государственности. Агония продолжалась бы не дольше, чем отпущенный Берии срок жизни. После этого наступил бы почти мгновенный коллапс. В такой ситуации ни о какой «перестройке» не могло быть и речи. «Оттепель», романтические шестидесятые, потребительские семидесятые и бурные восьмидесятые с их философией общих ценностей были еще впереди. Не пережив этих сорока лет, сыгравших роль социального амортизатора, пропитанное насилием общество не смогло бы избежать гражданской войны.
Берия проиграл не потому, что Хрущев оказался умнее, хитрее или удачливее. Сработал инстинкт самосохранения общества, которое выбрало для себя более «щадящий» сценарий, подаривший ему несколько десятилетий мирного старения и умирания. По всей видимости, в закрытых обществах действует своеобразный социальный аналог закона Геккеля (по которому в живой природе развитие индивида есть повторение развития вида в целом). Логика борьбы в замкнутом пространстве политической элиты трансцендентно отражает потребности общества даже тогда, когда это общество не способно оказывать прямого влияния на борьбу внутри властных группировок.
Рождение «советской цивилизации»
Сегодня мне кажется, что выбор Ричардом Пайпсом 1953 года как даты окончания русской революции очень точен[7]. Но 1953-й – это не только конец отсчета одной эпохи, но и начало отсчета другой.
Поражение Берии и победа Хрущева означали не только конец революции, но и знаменовали собой рождение «советской цивилизации». Однако прежде чем остановиться на этом более подробно, я должен сделать небольшое отступление.
По мнению Освальда Шпенглера, движение каждой культуры неизбежно подходит к точке, когда она становится зрелой, а значит, ее развитие как таковое заканчивается. Культура как бы «садится на собственную основу», и дальше начинается ее развертывание в рамках уже сложившихся общих параметров. Это развертывание может быть вполне плодотворным в течение длительного времени. Однако новой энергией «извне» в этот момент культура уже не «подпитывается». Это пора, когда «батарейки» не столько подзаряжаются, сколько расходуют заряд. Как бы ни была красива эпоха «зрелой культуры», она есть предтеча осени, и конец ее уже неотвратим.
Пытаясь лучше наметить этот переломный, очень важный для него момент в развитии культуры, Шпенглер даже попытался развернуть «непривычным» образом понятия «культуры» и «цивилизации».
«У каждой культуры, – пишет Шпенглер, – есть своя собственная цивилизация. Впервые эти оба слова, обозначавшие до сих пор смутное различие этического порядка, понимаются здесь в периодическом смысле как выражение строгой и необходимой органической последовательности. Цивилизации – неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты которого становится возможным решение последних и труднейших вопросов исторической морфологии. Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния, на которые способен более высокий тип людей. Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным детством… как умственная старость… Они – конец без права обжалования, но они же в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью»[8].
Я не готов разделить радикализм оценок Шпенглера и не уверен в универсальности предложенного им соотношения между «культурой» и «цивилизацией», но считаю очень важным обнаруженное им различие «становящегося» и «ставшего», «развивающегося» и «развитого» в культуре. Это различие очень важно для понимания динамики исторического процесса в целом, а в рассматриваемом нами случае позволяет лучше постигнуть исторический смысл произведенного в 1953 году переворота.
Истинное значение событий 1953 года заслонено от нас явно переоцененным 1956 годом с его «культовым» XX съездом. Но то, что принято считать кульминационным пунктом «оттепели», было всего лишь историческим следствием переворота, произошедшего за три года до этого. Просто следствие затмило собой причину, и в течение полувека 1953 год жил «в тени» ХХ съезда партии.
В этом нет ничего удивительного – за второй волной часто не замечают первой. Действительный поворот случился именно на Июльском 1953 года Пленуме ЦК. Противостояние Хрущева и Берии по смыслу своему было противостоянием курсов, опирающихся на «абсолютное» и «ограниченное» насилие, революции и контрреволюции, стратегии социального суицида и стратегии выживания. Исход этого противостояния был обусловлен тем, что сработал инстинкт самосохранения сложившегося к тому моменту весьма специфического «советского общества».
1953 год – это точка зенита советского периода русской истории. Понять смысл происходивших в этом году событий – значит приблизиться к пониманию самой природы «советского общества». Это своего рода водораздел между «советской культурой» и «советской цивилизацией». Если следовать логике Шпенглера, то можно сказать, что формирование «коммунистической системы» в этом кульминационном пункте завершилось. В дальнейшем она только раскрывала свой потенциал, постепенно исчерпывая себя.
Революция обладает страшной инерцией. Она долго «распаляется», но также долго и «затухает». Насилие – как зараза, от которой очень трудно избавиться, за годы революции оно входит в привычку, становится частью повседневного быта. В обществе формируются субкультуры, приспособленные к выживанию в этих специфических условиях, для которых прекращение революции – это потеря «естественной среды обитания». Война ужасна, но дети, родившиеся на войне, воспринимают ее как норму жизни, им трудно привыкнуть к миру. Для того чтобы остановить революцию, от общества требуется гораздо больше усилий, чем для того, чтобы ее начать. Джина легче выпустить из бутылки, чем загнать обратно.
Избавление от революции происходит, как правило, в два этапа. При этом путь к избавлению от насилия также лежит через насилие. Его уровень зависит от конкретно-исторических условий и обстоятельств, но, как было замечено выше, зачастую «выход» из революции оказывается более кровавым, чем «вход» в нее. И это понятно: утверждение нового порядка является более сложной задачей, чем разрушение старого, к тому же и так уже сгнившего общества.
На первом этапе происходит формальное отрицание революции. Насилие в определенной мере ограничивается. Оно из «общества» перетекает в «государство». Война «всех против всех» превращается в войну государства против общества. Это как раз тот этап, на котором революция «пожирает своих детей». Из него общество выходит, подавив внешний хаос и обзаведясь «вертикалью власти». Таким этапом в развитии русской революции стал 1929 год, когда возникла первая контрреволюционная волна. Она не покушалась на сам «внутренний» насильственный дух революции, им была пронизана вся философия укрепившейся власти. Эта власть утопила Россию в крови.
На втором этапе отрицается уже сам насильственный дух революции. Это двойное «отрицание отрицания»: во-первых – ужасов первой контрреволюции (что бросается в глаза); во-вторых – ужасов революции в целом (что становится понятным только через много лет). Этим этапом и стал 1953 год, разделивший советскую историю почти строго пополам.





