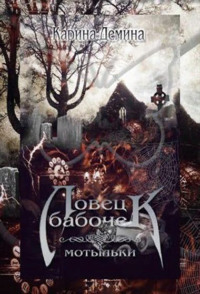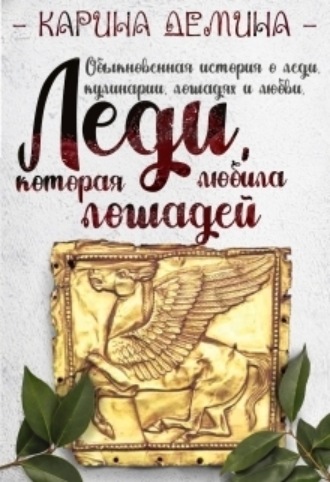
Полная версия
Леди, которая любила лошадей
Они ведь не могли просто взять и исчезнуть, те самые, золотые, будто из солнечного света сотворенные? Жеребцы и кобылицы? И еще знание, которое было куда ценнее табуна.
Знание, как теперь Василиса понимала, утраченное.
Но… почему?
– И портрета ее не сохранилось…
– А ведь и вправду, – теперь Марья выглядела задумчивой. – Не сохранилось. Я помню… ее крестили как Анну… Анну Николаевну. Отчество взяли от крестного отца. Крестили в какой-то церквушке, не в соборе. Наверное, он опасался, что родня не позволит, если до собора добраться, вот в первой попавшейся и крестил жену. Венчание состоялось там же. Я все думала, зачем? Только… знаешь, есть несоответствие.
– Какое?
Марья мотнула головой и сказала:
– Пойдем на чердак?
– Зачем?
– Кукол посмотрим. Я их боялась. Я говорила?
– Да.
– Я проверю… сперва сама проверю, нужно в кое-какие документы заглянуть. А никогда не задумывалась… она закончила жизнь в старом поместье, еще в том, которое досталось от прапрабабки. Там дом – почти изба. Вокруг деревня… во время войны французы сожгли и деревню, и поместье… и все-то почти.
– Он ее спрятал?
– Или она сама захотела спрятаться? Идем?
– Идем.
Лестница на чердак была узка. И вспомнилось вдруг, как Василиса поднималась туда, давно, лет двадцать тому. Поднималась не одна, но с Настасьей. Марья… где была Марья? Осталась ли дома, ибо была уже достаточно большой и самостоятельной, чтобы ей позволили подобную вольность? Или же просто отказалась от приключения?
Скрип ступеней.
Особый запах, не сказать, чтобы неприятный. Скорее уж так пахнет место, где хранят забытые вещи. Фонарь в руке. Настасья останавливается, прислушиваясь к чему-то. И Василиса тоже слушает. И слышит, что шорох мышей, копошащихся где-то рядом.
Мышей она не боится.
– Как здесь… неуютно, – Марья ежится и зажигает огонек. Ее сила послушна, и огонек сжимается до точки, но он яркий и света дает довольно.
– Как прежде… мы как-то с Настасьей забрались.
– Зачем?
– Решили сокровище найти. Древнее.
– Откуда здесь древнее сокровище? – удивилась Марья.
– Понятия не имею. Но тогда мысль показалась здравой.
Дверь не заперта, и Василиса толкает ее. А та отворяется с протяжным скрипом, как и положено старой двери. Запах становится резче, неприятней. И что-то все-таки гниет, а что-то зарастает пылью.
– Погоди…
Сразу за дверью прячется столик, низкий, похожий на огромного паука. И на нем стоят канделябры, а в канделябрах – остатки свечей. И кажется, что оставили их именно потому, что тетя знала…
…знала ли она то, что знает теперь Василиса?
И не потому ли решила заниматься лошадьми? И не потому ли столь придирчиво выбирала, что кобыл, что жеребцов, искала по всей Империи, выписывала, порой переплачивая, и далеко не всегда лошади были хороши.
Может, ей не порода нужна была?
А… что тогда?
Утраченный дар степей? Кровь солнца, которая скрылась, почти исчезла, но тетушка надеялась, что однажды у нее получится… вернуть?
Нет, то, что видела Василиса, не требовало стольких усилий. Скорее… или тетушка не знала всего?
Огонек растекся по свечам, приник на мгновенье и поднялся, преображаясь.
– Это тетушкино… – Марья тронула тяжелое кресло на полозьях, слегка прикрытое старой белой простыней. Простыня сползла, и стало видно, что мышам кресло тоже по нраву пришлось. Особенно гобеленовая его обивка. – Надо будет нанять кого, чтобы починили. Помнишь, она его вплотную к камину подвигала, а на колени альбом свой, с лошадьми, клала.
– Куда он подевался?
– Не знаю, – с некоторой растерянностью произнесла Марья. И нахмурилась. – Мне передали бумаги… много бумаг… документы на землю. На завод. На лошадей. Купчие. Векселя. И расписки… кому-то была должна тетушка, кто-то – ей. Следовало рассчитаться за овес и сено, с людьми, что на конюшне работали. Закупить опилки, солому. А меня мутило все время. Господи, я ему сказала, что нам и одного ребенка достаточно, а он же… змей несчастный.
Она прижала руку ко рту.
– Не обращай внимания, это я так…
Конечно.
Она ведь родила дочь спустя пару месяцев после тетушкиной смерти. И Василиса везла в подарок племяннице муслиновые пеленки и погремушку, украшенную драгоценными камнями. Ей и в голову-то не пришло, что и Марье пришлось нелегко.
Что…
Марья же, добравшись до первого сундука, откинула крышку. И пусть гляделась та тяжелой, но поддалась легко.
– Иди сюда, – позвала она, заглядывая в черные, пахнущие лавандой глубины. Пучки истлевшей травы закрепили по краю. – Держи…
Марья потянула что-то полупрозрачное, кружевное… фату?
Свадебный наряд, сшитый по моде прошлого века, с тяжелыми нижними юбками, щедро украшенный кружевом, которое осталось, как и серебряное шитье. А вот жемчуг спороли.
Марья приложила платье к себе и хмыкнула.
– Красивое, – сказала Василиса. – И тебе идет.
Ей все-то шло, но в полупрозрачном, пыльном этом наряде, Марья донельзя походила на… призрака?
– Знаешь… – задумчиво произнесла она, – А ведь их портрета тоже нет. Ни дагерротипа, ни обыкновенного.
– Ты о ком?
– О тете. И ее супруге. Ты его помнишь?
Василиса кивнула, правда, сочла нужным уточнить:
– Не сказать, чтобы хорошо… но помню. Он много курил.
– Вот и я помню, что он много курил, а больше ничего. Они ведь мирно жили. Не знаю, про любовь, была она или нет. Тогда мне казалось, что они слишком старые для любви… какая глупость.
Платье было шершавым и пыльным, и пахло тоже пылью, а еще самую малость лавандой. Василиса попыталась представить тетушку в этаком наряде и не смогла.
А ведь…
И вправду портретов не сохранилось. Ни свадебного, ни семейного, ни любого иного… почему? И вновь мерещился в этакой малости скрытый смысл.
– Я не помню, был ли он высоким или низким.
– Высоким. Выше тети.
– Толстым? Худым?
– Обыкновенным.
– А цвет волос? Глаз? Черты лица? Хоть что-то! Будто память взяли и… не знаю… – Марья поморщилась, будто от головной боли, а потом попросила: – Расскажи мне еще раз, что ты видела. Только подробно. Пожалуйста.
Василиса убрала платье в сундук, сложила бережно. Ткань и без того стала хрупкой донельзя. А Марья с подсвечником двинулась дальше. Она задержалась ненадолго у старинного зеркала с треснувшею рамой. Трещина рассекла лозы деревянного винограда и пару птичек, в этом винограде укрывавшихся. Она нырнула куда-то под стекло, но стекло было целым.
Глубоким.
Со звездочками.
– Если бы я сама знала, но… – рассказывать во второй раз было куда проще, чем первый. И главное, что Василису слушали.
Снова.
А она говорила. Теперь уже неспешно, вспоминая каждую деталь, и вместе с тем наново переживая все. Она рассказывала про шамана и про руки его, и про коней, равных которым не было, и про того, который был предком Василисы, но все одно ощущался чужаком. И сейчас рассказ был полный. Он заставлял Марью хмуриться и поджимать губы.
Сейчас она скажет, что не верит.
Или что верит, но это все – не более чем мираж. Случается с людьми видеть картины придуманные, которые во многом похожи на настоящие.
– Вот значит как… – сказала Марья, когда рассказывать стало нечего. И потерла кончик носа. – Все это странно… очень странно.
Она опустилась на очередной сундук, в котором тоже лежали платья, пусть и не свадебные, но нарядные, из тяжелого бархата или муара, щедро украшенные кружевом или вот шитьем.
– А ведь я когда-то спрашивала бабушку… когда она еще жива была. О той истории… о том, почему она тебя не любит.
– Надо же, а я убеждала себя, что мне кажется. Хотя…
– Она разозлилась. Очень сильно разозлилась. Так, как никогда прежде. И велела мне не болтать глупостей, а делами заняться. И вдруг оказалось, что дел этих – великое множество… ты же знаешь.
Василиса кивнула.
Бабушка… с бабушкой отношения не сложились. Та, истинная Радковская-Кевич, синеглазая, светловолосая, великолепная, несмотря на возраст, а лет ей было немало, отчего-то всегда глядела на Василису так, что хотелось спрятаться.
– И тете она никогда не писала. А та не писала ей. Я бы знала.
Марья поставила подсвечник на пол и погладила огоньки, а те потянулись к бледной ладони.
– Она будто вообще не хотела знать, что у нее есть дочь. И в завещании… помнишь?
– Смутно.
– Она одарила всех. И ладно прислугу, это, в конце концов, вопрос приличий, но… меня и Настасью. Александра. Отца. Мать. Родню своего покойного супруга. Даже такую, о которой я прежде и не слышала-то. Но не тебя. И не тетушку. Будто вы… чужие?
Это слово Марья произнесла с удивлением. А Василиса поняла, что они и вправду чужие. Отчасти.
– Знаешь… она часто заговаривала о моем долге. О том, что я обязана правильно выйти замуж, за человека достойного, с титулом и состоянием, но не только… за того, кто будет способствовать возвеличиванию рода. И Настасье найти такого мужа, ибо сама она не способна. И Александру. А когда я спросила про тебя… она не услышала. Вот так.
Василиса пожала плечами.
Когда-то давно она, пожалуй, и вправду огорчалась, порой до слез, особенно, когда посыльный приходил с подарками, скажем, к Рождеству. И подарки были для всех, верно Марья сказала, даже конюшим мальчишкам бабушка присылала лакричные леденцы. А вот Василисе…
Марья делилась.
И Настасья. И даже Сашка, который мало что понимал, все одно спешил сунуть в руку конфету, утешая. Но обиду конфетой не изживешь.
А потом все прошло.
– Мне следовало быть настойчивее, – Марья подняла руку от огня. – Может, тогда я бы что-то да узнала…
– Сомневаюсь.
– Я ее боялась, бабушку.
– И я.
– И Настасья… и, наверное, все, кто ее помнит… она ведь умерла не такой и старой. Всего шестьдесят три ей было. А еще… – Марья прикусила губу и нахмурилась. – А ведь… есть родовая книга и… редко кто из Радковских переступал семидесятилетний рубеж.
Василиса поднялась.
И пошла по пустому коридору, образованному старой мебелью. Колыхались пыльные простыни, грозили упасть под ноги, а может, на ноги. И не только простыни. Тихий вздох где-то рядом заставил вздрогнуть.
– И ведь все мы – сильные одаренные, а для одаренных…
Голос Марьи доносился откуда-то издалека. Василиса даже подумала, что в этаком месте потеряться недолго. Но тотчас укорила себя за глупость. А еще подумала, что Марья права.
Люди с даром живут дольше тех, к кому Господь был не столь милостив.
И шестьдесят лет… а княгиня Радковская-Кевич казалась древней, красивой, конечно, ибо и стареть можно по-разному, но… древней. В ее доме всегда было тихо и пусто.
Жутко.
И редкие обязательные визиты становились едва ли не пыткой. И кажется, не только для Василисы.
– Почему никто не обратил внимания… или… конечно… она ведь умерла своей смертью. Прадеда забрала война… и ее братьев тоже. А она просто уснула и не проснулась. И тетушка… Вася, ты где?
– Здесь, – она все-таки нашла их, тетушкины альбомы, сложенные в старом шкафу, убранные за стекло и, как Василиса надеялась, стеклом же защищенные от мышей. Альбомов набралась приличная стопка. И открыв дверь, Василиса взяла верхний.
А ведь она помнит, что тетушка рисовала, но что…
Жесткая обложка. И тонкие папиросные листы, которыми перекладывали акварели, чтобы те, если вдруг отсыреть случится, не слиплись.
И лошади.
Разные.
Вот огромный фриз с лохматыми ногами, с гривою, едва ли не до копыт. А вот, словно в противоположность ему, сухой, изящный ахалтекинец изабелловой масти и с глазами зелеными, что уж точно встречается почти до невозможности редко.
Костистый дончак.
И угловатый некрасивый с виду англичанин, изображенный резко, будто раздраженно.
Василиса отложила альбом и взяла другой. Снова лошади. Разные. Всякие. Большие и малые, порой едва ли не дикие, вроде якутских большеголовых, покрытых толстою шерстью, а с виду больше на медведей похожих, чем на лошадок.
Аргамаки.
И тяжеловозы.
Упряжные. Верховые. Смески, подписанные тетушкиной рукой, чтоб, верно, не запутаться, в ком какая кровь. И записи эти ценны, но не только они. Должен быть дневник, журнал, что-то, в чем бы тетушка оставляла настоящие заметки.
– Что тут? – Марья принесла еще свечей, и стало светлее. – Нашла?
– Нашла. Видишь? – Василиса развернула еще один альбом. – Она тоже про них знала.
Эти лошади, в отличие от прочих, на первый взгляд казались одинаковыми, даже Василиса сперва решила, что видит перед собой одну и ту же… но нет. Вот у этой кобылы грудь чуть узковата и зад обвислый. А жеребец имеет белые пежины на бабках. У третьего грива острижена коротко, что подчеркивает мускулистую шею…
– Она их придумала.
– Нет, – Василиса покачала головой, коснувшись последнего рисунка, где подле обыкновенной с виду кобылы на тонких ногах стоял золотой жеребенок. – Она их увидела… только не знаю, как.
И почему лишь лошадей.
И…
И вопросов было слишком много, а ответы, признаться, пугали. Василиса закрыла альбом и прижала его к груди. Она рассмотрит его позже и не только его.
Главное, теперь она совершенно точно знала, что ей делать.
Глава 3
Возвращаться на виллу не хотелось, ибо остаток дня прошел, как ни странно, в этаком благословенном умиротворении, нарушить которого оказались неспособны ни холодные взгляды княжны, ни присутствие некроманта. Последний явно не намеревался покидать дом, впрочем, и хозяйку его игнорировал самым невозможным способом, отдавая предпочтение еде. Жевал он постоянно, что, однако, не мешало ему говорить.
А говорили обо всем.
О погоде, которая в Крыму всегда-то была чудесной, но нынешним годом особенно.
О политике, пусть сия тема сперва показалась Демьяну не представляющею интереса для дам, но выяснилось, что он очень даже ошибается, ибо рассуждала княжна Вещерская весьма здраво, а местами едко и даже зло, хотя и до боли точно. И он сам-то неожиданно для себя заговорил.
Не о политике.
В политике Демьян к стыду своему разбирался мало, то ли дело лошади. Лошади… когда и кто первым заговорил о них, но…
…он и вправду любил лошадей, хотя прежде и стеснялся этой своей во многом сугубо теоретической любви, ибо не назовешь же практикой прогулки по лошадиному базару и те малые выезды, которые, если и случались в свободное от работы время, то исключительно на конях прокатных.
Но вот…
…тонконогие аргамаки или все-таки степные кони, которых ныне, слышали, в целых три породы выделили. И говорят, что есть еще четвертая, которую никто-то из людей белых, даже из тех, что допущены были ко дворцу султана, а иные и жили-то в нем, немало обласканные, не видывал. Ибо кони эти давно уж признаны сокровищем куда большим, нежели золото или камни драгоценные. Демьян сам слышал о них от отца, а тот от приятеля, с которым служил, утверждая, что приятель оный, пусть и известен был языком длинным, но все же в иных вещах не обманывал.
…о лошадях диких.
И полудиких.
Тех, что гуляют на просторах, пусть и вида невзрачного, но весьма умны и выносливы. О фризах и аппалузах, о невозмутимых ольденбургах[1] или до крайности редких марвари[2], о достоинствах и недостатках которых ходит немало слухов, и как знать, которые из них верны, если англичане запрещают этими лошадьми торговать. И не понять, из природной ли вредности или нежелания делиться редкостным сокровищем. О клайдесдалях[3] и першеронах[4], равных которым в Империи нет, хотя давно следовало бы заняться выведением своих тяжеловозов, таких, чтоб и сильны, и неприхотливы.
О липицианской породе[5], славной, что мастью своей, что воистину редким умом.
И об отходящих в прошлое вместе с рыцарями жемайтах[6].
Говорить было до странности легко, впервые, пожалуй, Демьян вовсе разговаривал с кем-то не о работе и не о делах домашних, но о чем-то ином. И не только говорил, но… его слушали.
Даже княжна.
Пусть и смотрела все одно слегка свысока и, как почудилось, с насмешкою, но обидно не было. Просто стало вдруг ясно, что вся она, Марья Вещерская, такая и есть, какою кажется, холодная, надменная и чрезмерно строгая, что к себе, что к людям. Такой угодить непросто.
И не нужно.
Вот Василиса спорила иначе. Она злилась.
И хмурилась.
Кусала губы и сжимала кулачки, когда с чем-то категорически была не согласна. Встряхивала головой, и темные ее пряди, выбившиеся из косы, подпрыгивали этакими забавными пружинками. И хотелось смотреть, и злить ее нарочно, или все же уступить, хотя нутром Демьян чуял, что это-то и будет неверным. Да и спор… от пород и лошадей он сам собою перешел на автомобили. И уже Марья, слегка взбудораженная, утверждала, что будущее аккурат за ними. А Василиса не соглашалась. И говорила, что, конечно, автомобиль преудивительное изобретение, однако лошадей он не заменит. Уж больно много понадобится автомобилей.
А лошадь и надежней, и обходится дешевле, и главное, что хватит с нее травы и овса, нет никакой надобности скупать керосин по аптечным лавкам.
Вечер упал на долину, принеся влажноватый дух моря, в который примешались запахи иные, густые и сочные, и было их так много, что закружилась голова. И верно, не у одного Демьяна, если он вдруг понял, что утомился говорить, да и вовсе.
Пили чай на веранде.
Скрипели доски и полозья старого кресла, в котором устроилась княжна, и на плечи ее сама собою опустилась снежная легчайшая шаль, пусть было вовсе даже не холодно.
Устроился на ступеньках некромант.
И это вновь же не показалось неправильным, скорее неправильным было бы не подчиниться местной завораживающей тишине.
Был старый самовар, который растапливали сосновыми шишками, и княжна ворчала, что этой древности самое место на кухне, а никак не за столом, но ворчала не зло, и после, устав ждать, когда займутся-таки шишки, сама кинула искру.
Были пряники.
И плюшки.
Чай с дымком. Смородиновое варенье и варенье малиновое, с мятою, пусть и прошлого года, но все одно темно-пурпурное и тягучее.
Первый весенний мед. И мед прошлогодний, потерявший текучесть и даже мягкость. Княжна его ела и жмурилась. И Василиса тоже жмурилась. И в этот момент становились они с сестрой похожи до невозможности.
Почему-то там, на веранде, все-то представлялось Демьяну простым и понятным.
Ночь.
Ветерок с моря. Темнота да звезды. Дичающий сад и новый, неуместный этой своей современностью, автомобиль. Собственный голос… игра в фанты, которая началась с пустяка.
Песня… он никогда-то не умел петь красиво, и голос его отличала неприятная хрипотца, но ныне и она не помешала. А что до песни, то сама собою в голову пришла. Демьян и не знал, откуда взялись-то слова. Взялись. И нервно перебирал струны гитары Вещерский, и… и все закончилось, когда выползла-таки тяжелая, кривобокая луна.
– Я вас довезу, – сказал Вещерский, отдавши гитару супруге.
– Может…
– Больше пока просить некого, разве что Лялю.
– Не надо Лялю, – Демьян вдруг понял, что просидел здесь, в чужом доме, не один час и, возможно, присутствие его и вправду было неуместно.
Возможно даже, что присутствие это до крайности тяготило хозяев.
Или…
Вещерский указал взглядом на Василису, которая спала.
В кресле.
Укрытая той самой белоснежной шалью, что еще мгновенье тому лежала на плечах княжны. А та, вернувшись в кресло, грызла бублик и на Демьяна вовсе не глядела. И…
– Прошу прощения, – стало стыдно.
Хорош.
Мог бы понять, что девушка всю ночь на ногах провела, да и день-то приключился хлопотным, а он, вместо того, чтобы откланяться, когда это было прилично, мучил ее.
– Не берите в голову, – сказал Вещерский, когда автомобиль выбрался на дорогу. – Это хорошо, что уснула. Значит, спокойно ей. И Марье вы глянулись.
– Сватаете?
– Пользуюсь случаем.
Вещерский вел автомобиль куда более решительно, чем сам Демьян.
– Что? Сами посудите. Марья, пока всех сестер замуж не выдаст, не успокоится. Настасья, к счастью, сама справилась, а вот с Василисой… не так уж много у меня знакомых, в порядочности которых я уверен.
– В моей, стало быть, уверены?
– Пока нет. Но досье доставят.
Что ж, доля шутки в этих словах тоже имелась.
А на вилле его ждали.
Ефимия Гавриловна изволила прогуливаться по дорожке с видом столь нервозным, что становилось очевидно: гуляла она доволи давно и отнюдь не с тем результатом, на который рассчитывала.
– Вы поздно, – сказала она вместо приветствия. И губы поджала, сделавшись донельзя похожею на сестру, когда той случалось выказывать свое Демьяном недовольство.
– Прошу прощения?
Все ж таки в отличие от сестры с этою женщиной Демьяна связывало исключительно случайное соседство и только-то. Ее даже приятельницею не назовешь.
– Это вы меня извините, – Ефимия Гавриловна разом растеряла свое раздражение и рукой махнула. – Совсем с этою девчонкой… из сил выбилась. На людей кидаюсь.
– Устали?
– Устала… когда я ее упустила? У вас нет детей?
– Нет.
– И это хорошо. Мне нужно с вами поговорить.
Облаченная в темную длинную юбку и белую блузу того строгого фасона, который более подошел бы какой-нибудь гувернантке или компаньонке, нежели даме состоятельной и свободной, она гляделась старше своих лет. Лицо ее показалось одутловатым, а в свете редких фонарей кожа обрела характерную желтизну. Тени подчеркивали запавшие глаза и бледные губы.
– В таком случае… – приглашать кого-либо в комнаты Демьяну не хотелось. И Ефимия Гавриловна поняла. Кивнула и сказала:
– Тут недалеко беседка имеется. Я не займу ваше время.
Времени ныне у Демьяна было с избытком.
И он согласился.
К тому же… с чего он взял, что приглядываться надобно исключительно к особам молодым? Оно, конечно, в большинстве своем именно они и становятся жертвами красивых идей, но встречаются средь сочувствующих народовольцам-освободителям и совсем иного склада люди.
Так почему не она?
Одинокая. Оставшаяся некогда без поддержки мужа и денег, сумевшая возродить, что дело, что состояние… могла ли?
Сложно сказать вот так, сразу.
А беседка и вправду оказалась хороша, поставленная чуть в стороне от дорожек, укрытая темным тяжелым виноградом, она будто специально была создана для разговоров приватных.
Внутри было влажно.
Слегка прохладно.
И пахло землею, деревом и резкими тяжелыми духами Ефимии Гавриловны. Подумалось, что в этаком укромном месте многое сотворить можно.
– Вы должны мне помочь, – сказала Ефимия Гавриловна, прежде чем Демьянова фантазия вовсе вышла из берегов.
– Чем?
Она присела на краешек лавки, осторожно, будто опасаясь, что эта лавка не выдержит ее веса. Вздохнула. Прижала к груди платочек и уставилась перед собой невидящим взглядом. Сумрак беседки скрывал ее лицо, и волосы, и лишь белая блузка выделялась этаким неуместно ярким пятном.
– Аннушка хорошая девочка, но… она запуталась. Совершенно запуталась. Ей кажется, что вся-то жизнь и будет проходить в одном лишь веселье, что иначе и невозможно-то… и не желает, никак не желает понять, что веселье скоротечно, как и молодость.
Ефимия Гавриловна всхлипнула неожиданно тонко, как-то совсем уж по-девичьи.
– Меня она слушать не хочет. Связалась с этим проходимцем.
– Сочувствую.
Демьяну кивнули, и ручка с белым платком коснулась лица.
– Я… скоро меня не станет. И кто позаботится о ней?
Стало как-то слегка… не по себе. Заботиться о посторонней девице весьма свободных нравов у Демьяна никакого желания не была.
– Женитесь на ней. Пожалуйста.
– Простите?
Демьяну показалось, что он ослышался, но Ефимия Гавриловна повторила:
– Женитесь.
– Я пока не готов жениться.
Тем паче на подобной особе, полагающей, что мир весь и целиком создан исключительно для ее личного пользования. С этакою не жизнь будет, а сплошное мучение.
Да и в лошадях она понимает мало.
– Отчего же? – Ефимия Гавриловна убрала платочек и тон ее изменился, появились в нем этакие властные нотки, которые Демьяна пугали. – Она молода. Здорова. Миловидна. Что еще надо?
Ума бы хотелось.
И воспитания какого-никакого. Близости душевной, руку на сердце положа, ибо без нее, как теперь Демьян понимал, смыслу в браке нет.
Любовь…
Про любовь он точно сказать ничего не мог, ибо, несмотря на годы и жизнь довольно-таки бурную, влюбляться ему, так, чтобы до потери разума и способности дышать, не случалось. Бывали, положа руку на сердце, разные симпатии, но и те проходили быстро.
– Послушайте, по вам видно, что мужчина вы серьезный. Офицер или так… не важно, главное, что сумеете с норовом ее совладать. Хотя бы по первости. А там детки пойдут, и ей не до того станет.