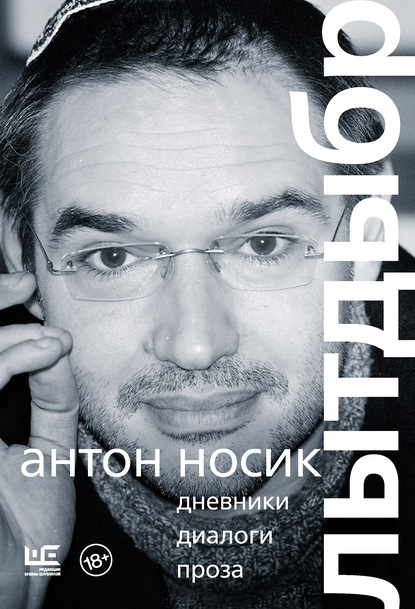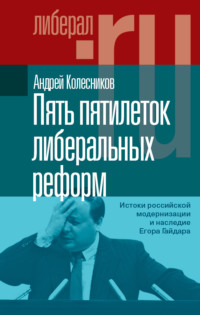Полная версия
Попасть в переплёт. Избранные места из домашней библиотеки
“Юго-Западная” – метро из детства, куда приезжал регулярно в гости к лучшему другу в передовую двадцатидвухэтажку, на двадцать второй же этаж. Потом приезжал в гости и в юности. Выходил из вагона в тот же интерьер, с тем же освещением. Тогда казалось, что все это – подготовка к жизни, она впереди. Сейчас, выходя на “Юго-Западной” в том же интерьере, в том же освещении, подумал, что жизнь уже была и уже прошла. То, что считалось подготовкой, и оказалось жизнью, причем самой активной ее фазой. “И, стоя под аптечной коброй, / Взглянуть на ликованье зла / Без зла, не потому что добрый, / А потому что жизнь прошла”[1].
А книги на полках в этой двадцатидвухэтажке в библиотеке покойного отца моего друга – всё те же. Я радуюсь им, как старым (и постаревшим, отчасти – покинутым) друзьям.
История – в том числе личная – сохранилась в этих книгах, в их названиях, которые в детстве, конечно, мало о чем говорили. И коллекция бутылок отца друга – полвека назад все эти волшебные этикетки казались посланцами из другого мира. Особенно мне нравилась бутылка из-под виски Cutty Sark – исключительно потому, что в детстве я бредил парусными кораблями, а знаменитый чайный клипер был изображен на этикетке.
Не было ничего важнее морских приключений. Радио пело детским голоском: “След мой волною смоет, а я на берег с утра приду опять, море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать”. Литая формула детских устремлений, если не считать индейцев – но как раз до них-то и нужно было доплыть на корабле. Или таким же манером, как Тур Хейердал. А потому главный “учебник” мореплавателя – С. Сахарнов, “По морям вокруг земли”, издательство “Детская литература”, сдан в набор еще в 1975-м, подписан в печать в начале 1976-го. Первоклассная бумага, предметный указатель, потрясающие иллюстрации, на форзацах – морская азбука, флаги Международного свода сигналов, суперобложка – корабль на старой карте. Тираж по тем временам небольшой – 50 тысяч. Дома этой книги почему-то не было, несколько раз я брал ее в библиотеке. А спустя сорок лет с жадным восторгом узнавания и возможности обладания купил в букинистическом.
Дополнительным пособием служил первый том двенадцатитомной разноцветной “Детской энциклопедии” (издавалась с 1971-го по 1977-й) – там было много важных сведений о географических открытиях и целый раздел про динозавров с картами и картинками. Из-за чего этот том рвали из рук друзья и знакомые – тогда с динозаврами, в отличие от сегодняшнего дня, была напряженка.
Карты вообще были важным подспорьем, они обязательно висели рядом с письменным столом, как и книга, доставшаяся от брата, – “Повесть о карте” Аскольда Шейкина 1957 года издания. Это тоже поколенческое и типичное для интеллигентных семей тех лет занятие – разглядывать географические карты, что выяснилось однажды из разговора с моей подругой Ирой Ясиной.
Роль же “задачника” играла книга географических загадок Михаила Ильина “Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина” с рисунками Анатолия Иткина. Это издание 1976 года, а было еще несколько предшествующих, с конца 1950-х, и радиопередача. Вероятно, отчасти по образцу книг о “Клубе знаменитых капитанов” и соответствующих радиопрограмм. Роскошный сборник радиопьес Владимира Крепса и Климентия Минца (издательство “Искусство”, “На волне знаменитых капитанов”) родители и бабушка – с дарственной надписью почерком отца – подарили мне в мае 1975-го в связи с посвящением в пионеры.
И как тут не задуматься о поступлении в мореходное училище. Но для этого надо было хорошо знать математику, а я ее знал не просто плохо… И потом, я все-таки решил в то время, что стану не мореходом, а хоккеистом, возможно, с последующим превращением в этнографа. Но ни Тура Хейердала, ни Владислава Третьяка, ни Хельмута Балдериса, ни Клода Леви-Стросса из меня не вышло.
Свойства перемен, отражающиеся в спорте. Хоккей изменился до неузнаваемости. Теннис – тоже. Футбол – нет. Только жесткости и прессинга стало больше. И он утратил красоту.
Еще один образец книжного долголетия – повесть Сергея Розанова, первого мужа Натальи Сац, “Приключения Травки”. Травка – прозвище пятилетнего мальчика. Вполне очевидно, что прототип – Адриан, сын Розанова и Сац, впоследствии журналист и писатель. Книга – своего рода путеводитель по практическому выживанию в Москве и Подмосковье для детей дошкольного возраста, написанный внятным языком, безукоризненно точно адаптированным для малышей – проверено на нескольких поколениях.
Первое издание – 1928 год. Москва менялась – корректировалось и содержание книги. В сильно зачитанном виде, почему-то с криво отрезанным ножницами титулом и нацарапанным на обложке бабушкиным почерком словом “Колесников” (чтобы не увели знакомые детсадовцы?), есть она и в нашей домашней библиотеке. Это первое посмертное издание, оно сдано в набор в начале 1957 года, за три дня до смерти автора. На сайтах букинистов можно найти преимущественно именно его, поскольку оно было самым массовым – триста тысяч экземпляров. С чудесными и такими же внятными, как текст, иллюстрациями художника Исаака Гринштейна, известного классическим оформлением “Сына полка” Катаева, книга выходила с 1949 года. Переиздавалась в 1951-м, в 1954-м, тиражи были сравнительно небольшие.
В издании 1957 года есть все обстоятельства 1950-х: переезд семьи в новые дома в Петровском парке, оплата проезда в троллейбусе и метро, осмотр станции “Площадь Революции”, любование двумя домами-великанами – МИДом, у которого стоят ЗИМы, ЗИСы и “Москвичи”, а также МГУ. “Ты будешь в нем учиться, когда окончишь школу. Конечно, если окончишь с пятерками или по крайней мере с четверками. Ты будешь жить там высоко, где-нибудь в комнате на 32 этаже”. Вполне себе траектория формирования нового советского среднего класса. Правда, непонятно, зачем жить в общаге, если есть прекрасная родительская квартира в Петровском парке, да еще рядом со стадионом “Динамо”.
Многое теперь вызывает боль: от музыки до игры света и тени, будящей воспоминания. Но боль уже не отчаянная, а усталая, ведь вернуть ничего нельзя. Жизнь как накопление боли, перемешанной с виной, когда память перевешивает те сюжеты, которые еще осталось прожить до естественного конца.
“Что делать? Надо жить: у нас дети”, – всякий раз говорит мой друг, заканчивая телефонный разговор. Или: “Мы-то пожили, а детей жалко”. Или: “Хорошо, что мама (папа, брат, сестра, дедушка, бабушка) не дожили до этого кошмара”.
Мама и не дожила. Хотя ее организм спортсменки-альпинистки был спроектирован для долгой жизни – если бы не рак. Ей не было и десяти лет, когда арестовали ее отца – она стала дочерью “врага народа”. Спустя двадцать два года после ее смерти сына назвали “иностранным агентом”. Порочный круг прикладного сталинизма замкнулся. Выскочить из него не удалось ни нашей семье, ни стране.
В очереди на оплату ухода за захоронением. Женщина спрашивает, кто последний. И ставит обычную хозяйственную сумку на пол. Раздается гулкий звук – урна коснулась кафельного пола. Все, что осталось от человека. Банальность бесконечного, обыденность метафизического.
Жизнь как способ не вляпаться в дерьмо. Окрестности превратились в собачью площадку, нужно очень внимательно следить за тем, куда ставишь ногу. Но и оказавшись в волшебных местах в предгорьях Алтая, оцепенело слушая тишину и давая передохнуть взгляду, я едва не вляпался в коровье дерьмо. Здесь тоже нужно ходить, внимательно следя за тем, куда ставишь ногу. И потому становится невозможным слушать тишину и давать отдых взгляду. Вот так и в жизни: все усилия уходят на то, чтобы не подорваться на этом минном поле.
Запах старой книги столь же многослоен, как аромат осенней листвы. Или бренди на хересе, или односолодового виски. Да и сама домашняя библиотека окружает как лес. Внутри этого леса, под корой книг-деревьев, идет своя интимная жизнь, прячутся невидимые секреты: записочки, рисунки, легкие листики троллейбусных билетов, спрессованные под спудом времени квитанции на давно исчезнувшие предметы одежды, уже отстиранные в химчистке и ушедшие в отстиранном виде в небытие.
Книги действительно похожи на деревья: они рассыхаются, медленно умирают и распадаются.
Запах книг – как запах леса. Он обрушивается на тебя, когда открываешь створки книжного шкафа. Особенно если на полках хранятся собрания сочинений, изданные в 1950-е, 1960-е, 1970-е. Драйзер, Фейхтвангер, Цвейг, Голсуорси, Гоголь, Тургенев, Хемингуэй, Гофман, Бальзак, Чехов, Роллан…
Такой же бриз книжного запаха встречал нас, когда Екатерина Юрьевна Гениева, управляющая моделью рая на земле, наследница Маргариты Рудомино, водила меня по Библиотеке иностранной литературы. Прикосновение к корешкам книг, как к стволам деревьев. Мы вместе радовались этим прикосновениям, обмениваясь взглядами, понимая друг друга. Понял бы нас и Карл Маркс, который называл своим любимым занятием действие, которое называется “рыться в книгах”. На стене моего кабинета висит небольшая репродукция: оксфордская профессура роется в книгах в темно-коричневых рембрандтовских сумерках книжного магазина Blackwell. Все они умерли; магазин остался, как и колледжи Оксфорда.
В Иностранку я приходил студентом младших курсов в годы, когда ею руководила Людмила Гвишиани-Косыгина. Я брал книги в абонементе. Однажды некий слобожанин заглянул ко мне через плечо – в метро, естественно, – его глаза пробежали по страницам “Les Mots” Сартра, и он недоверчиво спросил: “Ты тут что-нибудь понимаешь?” Вот так подлинно бесклассовая слобода смотрит со смесью презрения, недоверия и чувства неполноценности на Европу с ее невнятными буковками, которые лучше бы отменить совсем. А Иностранка при Гениевой распахнула все окна русской культуры и впустила воздух Запада – из этой атмосферной смеси рождалась свобода, гибельная для русских барака, казармы, портянки, окопа, нар, подворотни, неосвещенного, пропитанного запахом гнили и кошек подъезда. Русская культура заканчивалась, когда в Библиотеке иностранной литературы стали бороться с иностранными же культурными центрами внутри нее и выдавливать Гениеву, которую Людмила Улицкая назвала подлинным министром культуры России, с ее поста. И Екатерине Юрьевне пришлось бороться на два фронта: с властью, двигавшейся к опричнине, одичанию и крику “Гойда!”, и с онкологией. Они ее победили. Но ведь запах книг выветрить невозможно. Библиотеки – даже если ими руководят чиновники-приспособленцы – они ведь как противоракетный “Железный купол”: зло разбивается о них, не проникает внутрь.
Книга – как лес. Есть такая на книжной полке. Большеформатная. Зеленая. Одна из любимейших в детстве. Через нее прошли я, брат, два моих сына и дочка. Виталий Бианки, “Лесная газета”, подписана в печать в мае 1955-го, Ленинградское отделение Детгиза на набережной Кутузова. Самое интересное – разгадывать викторины. Бианки опередил свое время и превратил познание леса в квест уже тогда. Чтение следов – самое увлекательное. Кто здесь ходил, что делал? Почему кора ободрана именно на такой высоте, а не на другой? Какая птица что клюет и почему? Кто тут крутился на заснеженной крыше? Где тут лисий след, а где собачий? Какой-то свой мир, очень далекий от людской суеты и подлости. Хотя в разделе “Охота” всё весьма безжалостно. Потрясающая работа – целая галерея – художника-иллюстратора Валентина Курдова, учившегося у Петрова-Водкина и Малевича. Можно обзавидоваться: какое профессиональное счастье делать такой фолиант, сложнейший макет… И как важен формат: поздние малоформатные переиздания выглядят убого. И чем позднее, тем хуже.
Вот в эту книгу можно зарыться лицом и дышать ею, как лесом. Это запах дома. “И всё до боли мне знакомо. / Я дома, Господи, я дома. / Хоть и тогда хватало бед, / Но вечерами тихий свет / Мерцал под желтым абажуром”[2].
Память – это визуальные сполохи, выскакивающие эпизоды, связь между которыми утеряна. Но не всегда и не навсегда. Декабрь 1983-го, густо-синий вечер за окном кухни. В парадоксальной цветовой гармонии с ним темно-синий том – первый – из нового трехтомника Андрея Вознесенского. (“Три синих” – назовет он их в одном из стихотворений.) Потом пауза в памяти. Но следующий эпизод указывает на то, что тем же вечером я ехал в Лаврушинский переулок, чтобы найти квартиру Бориса Пастернака, кумира и идола. Вероятно, под влиянием эссе Вознесенского “Мне четырнадцать лет” в том же синем томе. Вошел в главный подъезд со стороны переулка, напротив Третьяковки, поднялся на какой-то этаж, потоптался у какой-то квартиры, которую по каким-то признакам счел пастернаковской. И ушел. Ведь заходить-то было некуда. Пастернака не было вот уже как двадцать три года. “И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул”[3].
Содержание книги иной раз откладывается в памяти не так основательно, как обстоятельства или, точнее, осязательно-обонятельный антураж чтения. “Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя”[4]. Сколько книг я прочитал, пока кормил из бутылочек молочной смесью своих младенцев, поминутно засыпавших и безмерно растягивавших процесс потребления продукта: за кормлением старшего сына в поздние восьмидесятые я освоил “Иудейскую войну” Фейхтвангера (седьмой том собрания сочинений; сдан в набор за неделю до моего рождения, в июле 1965-го). Кроме первой фразы “Шесть мостов вели через Тибр” и спорадических попыток разбудить похлопыванием по щечке ребенка, не помню ничего. И свет лампы, под которой мы сидели. Та же позиция, конец первого десятилетия XXI века, я кормлю засыпающую на руках дочь-младенца, предмет чтения – только что вышедшая “Божественная страсть” Аксенова. За окном – позднеосенняя чернота Филевского парка, единственный огонек у поворота рукава Москвы-реки – спасательная станция недалеко от причала “Кунцево”. Одна из лучших работ в мире у людей. И этот огонек – один из якорей, который удерживает на родине.
Первые Мандельштам, Цветаева, Ахматова: папиросная бумага, разноцветные самопальные переплеты – бордовый, зеленый, синий – прямо как тома детской энциклопедии 1970-х. Это уже балкон казенной квартиры в домике в “цековском” дачном поселке. Скрип алюминиевого раскладного кресла по балконной плитке. Прогулка с невестой лучшего друга в окрестных полях, по которым, если долго идти, можно добрести и до дачи Пастернака (где она потом и будет некоторое время работать по музейной части). Прочитав мои первые литературные опыты с изобилием метафор и прочих видов тропа, невеста моего друга раздраженно рецензирует: “В конце концов, всё можно сравнить со всем”. Кажется, от нее и были эти томики стихов – на несколько дней. Сама она пишет стихи в стиле обэриутов. Потом мой друг вернется из армии; первый постармейский контакт жениха и невесты, при том что они вообще-то соседи по “Юго-Западной”, мы устроим у входа в главное здание МГУ. Ошеломленные встречей спустя два года, они будут стоять у входа в сталинскую громаду. Я и сам с некоторым недоверием буду смотреть на Мишкину бритую голову и раздавшуюся вширь от дурного питания морду (потом это всё будет быстро исправлено – и голова, и морда). А в тот вечер мы пойдем на джазовый концерт здесь же, в ДК МГУ…
А в детстве книги – это ведь сначала иллюстрации. Потому я и собрал небольшую коллекцию старых детских книг, книжечек и журналов с иллюстрациями лучших художников. И даже скупил все находившиеся в букинистической продаже старые номера “Веселых картинок” – теперь их и не найти. Странные пристрастия: в раннем детстве я очень любил книгу Сергея Баруздина “Страна, где мы живем” со стилистически узнаваемыми иллюстрациями Федора Лемкуля. По ним потом мой младший сын (почему-то именно он из всех детей) в буквальном смысле познавал мир и совсем крошечным обожал пролистывать эту книгу. Подписана в печать (тогда писали “Подписана к печати”) в мае 1967-го – значит, я пристрастился к ней примерно в том же возрасте, что и сын Вася, года в два.
Мне страшно нравилась книга Евгения Мара – купленная еще брату, издана в 1960-м – “Чудеса из дерева”. Вот по ней видно, каким фантастическим книжным иллюстратором был Илья Кабаков. Интересно, что уже тогда я ухитрялся интересоваться выходными данными. И навсегда запомнил, что Детгиз – это Малый Черкасский, дом 1. Теперь там роскошная гостиница, окруженная шикарными ресторанами… А в те времена Детгиз был окружен разными продовольственными магазинами на улице 25 Октября, включая магазинчик, поштучно торговавший конфетами, – перекресток назывался Бермудский треугольник; один из ближайших ресторанов – “Берлин”, он же “Савой”, известный своими вычурными интерьерами и фонтаном, откуда до девяти вечера вылавливали для посетителей рыбу, а после девяти – уже самих посетителей. В кулинарии/буфете брали берлинское печенье в лимонной глазури.
А вот еще чудесный детский научпоп из времен детства моего брата – книга Георгия Елизаветина “Всему голова” (о хлебе) с иллюстрациями Виктора Дувидова. Ни у Дувидова, ни у еще одного классика, Виталия Горяева, не было своих детей, но сколько радости они принесли не своим детям, причем нескольким поколениям.
Книгу Бориса Бродского “Вслед за героями книг” с иллюстрациями Виктора Щапова я никогда не читал, зато часто разглядывал картинки. Издательство – “Детский мир”, потом его переименовали в “Малыш”.
Целая цивилизация пошла ко дну. А книги остались…
Пушкин начинался с Владимира Конашевича, с его иллюстраций к сказкам издания 1968 года (подписано к печати в январе 1966-го). Представления о разных оттенках синего – оттуда, из “картинок” к “Сказке о рыбаке и рыбке”.
Всего Пушкина и всё о Пушкине собирал папа. Мой близкий университетский друг был одержим Пушкиным, и в летние каникулы после первого курса юрфака МГУ мы совершили с ним паломничество в Михайловское. Из этого путешествия мне запомнились маленькие лягушата, во множестве скакавшие по аллее в Тригорском, и наше посещение дома легендарного директора музея-заповедника Семена Гейченко. Впрочем, сам Гейченко отсутствовал и так и не пришел.
В папиной коллекции есть потрясающий альбом издательства “Планета” 1979 года с текстами Гейченко и фотографиями Кассина и Расторгуева о Михайловском, Тригорском и Петровском – “Приют, сияньем муз одетый”. Удивительно, что такого качества печати достигала Первая Образцовая московская типография; про уровень работы фотографов и говорить нечего. А фото дня Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии рождает желание провалиться во времени: оказывается, нацию может объединять не ненависть к другим и выдуманная историческая память, а массовая любовь к поэзии и к исторической фигуре не полководца, не государственного деятеля – но поэта.
В библиотеке – разрозненные тома из нескольких собраний сочинений Пушкина и полное – бордовое, десятитомное, середины 1970-х – собрание. Хотя мне больше нравился карманного формата, кремового цвета восьмитомник конца 1960-х, от которого почему-то сохранился только пятый том с “Евгением Онегиным”. От бабушки остался третий том собрания сочинений в трех томах (издательство “Детская литература”, 1937 год), “редакция текста и объяснения” Бонди, Слонимского и Томашевского. Этот том – здоровенный. А есть еще маленький, коричневый, с “Историей Петра” из шеститомника 1946 года под редакцией Бонди, Томашевского, Цявловского, подарок мамы папе на его девятнадцатилетие 25 апреля 1947 года.
…В каждом доме отдыха центрами цивилизованного общения, помимо вестибюлей, были буфет, бильярдная и библиотека. Во все эти места можно было идти на запах. Ну, буфет – понятно. Бильярдная – сигаретный дым, приглушенный свет лохматых, как бахрома на индейско-ковбойских штанах, величественных ламп. Библиотека – аромат переплетов. Всякий приезжающий в дом отдыха первым делом шел в библиотеку, чтобы водрузить на прикроватную тумбочку несколько журналов и книг, – страна-то все еще была самой читающей. Как правило, библиотека оказывалась местом спокойным и даже, если речь шла о хороших, номенклатурных домах отдыха, идиллически-комфортным. Створки дверей распахивались на какой-нибудь полукруглый балкон с креслами, откуда открывался вид на сплошную левитановскую зелень. Смешение запахов и звуков леса с волной книжных ароматов составляло упоительный обонятельный коктейль.
Книги – это еще и тактильные ощущения. Приятно волнистая голова Пушкина на обложке с торчащим, как гусеница, бакенбардом. Рай земной – голубоватый двенадцатитомник Жюль Верна – все тридцать три удовольствия: погрузиться носом в раскрытые страницы, как в букет, втянуть ноздрями этот тонкий аромат, потрогать пальцами рельеф розы ветров, якоря; и вдавленные буквы – имя писателя. Ну, и найти между страницами – совсем внезапно – три старых марки. Одну французскую, с картиной Делакруа, вторую болгарскую, может, докоммунистическую, с каким-то напыщенным военным, и простенькую итальянскую, десятилировую, с репродукцией Микеланджело. Кто оставил их в седьмом томе – я или брат?
В детстве ногтем я иногда прочерчивал типографскую краску, чтобы увидеть, как она стрелой отделяется от строки – это были особые, хотя и несколько варварские отношения с книгой. Мять книгу, хрустеть ее обложкой и корешком я продолжаю и сейчас. Хотя это немного и напоминает обращение с воблой перед ее употреблением. Но иначе книга не готова к чтению, с ней нет контакта. Мой учитель, не стесняясь, подчеркивал шариковой ручкой, иногда разными цветами, нужные строки, в том числе в стихотворениях классиков. И тогда я осмелел тоже – брал в руки не только карандаш, но и ручку: книга работала, была живой, откликалась. Нон-фикшн, а иногда и фикшн я редко читаю без карандаша, без перечня нужных страниц на форзаце, без записи попутных мыслей.
Книги – это запах и свет. В комнате бабушки пахнет лекарствами. Черные большие часы Буре стоят в углу неживым памятником эпохи – никто не удосужился их починить. На стене – портрет моего дяди, погибшего на войне в свои восемнадцать лет. Я сижу в кресле у окна и читаю ей вслух – развлекаю – “Приключения Эмиля из Лённеберги” Астрид Линдгрен. Свет зимний, раннего вечера…
Книги – единственное наследство. Как за старшим братом донашивалась одежда, так за ним же “донашивались” и книги. Каждое следующее поколение “донашивает” их вслед за нами. Сам облик старых книг – слои семейной памяти, в том числе тактильной, как следы на страницах.
Лес – как оркестр… Ветер, как дирижер, указывает, какому дереву вступить со своей партией. Мох, черника, сосны, ели, карельские березы, вереск – погода меняется стремительно, меняется и партитура. В то лето друг отца заготовил для нашего номера в пансионате две полки переведенной на русский язык эстонской литературы – от досоветских классиков до советских классиков и далее к современной городской прозе, очень по-западному выглядевшей. Северный лес – очень правильная рамка для чтения. Не жарко, идиллически спокойно.
Первые издания навсегда предопределяют отношение к писателю. Первый синий томик Мандельштама был очень тонким – и о нем мы еще поговорим не раз, – но именно он сформировал представления об основе основ его поэзии. Главный Франц Кафка – это его первое издание 1965 года, черная книга с вкраплениями красного и серебра (суперобложка – сливочная с вторжением черного и тревожно полыхающим красным именем автора – была утрачена, вероятно, от частого употребления). Значение имеет шрифт, который иной раз, в отличие от содержания, впечатывается в память. Как и обложка. Иногда и она выполняет дополнительную функцию портрета обожаемого поэта, писателя, режиссера на книжной полке. Лицом к миру на моих полках, кроме Тарковского, повернуты Бродский, Набоков, Трифонов, Томас Манн, Олеша, Бергман, Висконти, Кесьлёвский, Ильенков…
В детстве я не читал ничего, кроме Жюль Верна, Майн Рида, Стивенсона, Лондона, Конан Дойля, Эдгара По и Альфреда Шклярского с его приключениями на разных континентах адолесанта Томека, сына польского революционера. В особую тетрадь записывались названия индейских племен и их географическая локализация – это был серьезный этнографический труд. Образы женской красоты черпались из “Всадника без головы”, визуализировались – из фильма “Золото Маккены”. Посмотреть его удалось далеко не сразу после выхода на экраны в СССР летом 1974-го (со времени мировой премьеры к тому моменту прошло пять лет). Фильм был “до шестнадцати” из-за сцены купания голышом героев, шерифа и Инги, а я переходил всего-то в третий класс. Унизительно и грустно было стоять за периметром деревянного дачного кинотеатра и тоскливо прислушиваться к гулким звукам приключенческого фильма, где было собрано все самое главное для меня.
Тематически к этнографическим исследованиям примыкали гэдээровские фигурки индейцев и ковбоев (как тогда говорили на детском жаргоне, “ковбойцев”) и гэдээровское кино с индейскими приключениями. Индейцев родители привезли из поездки в ГДР году в 1977-м. Кажется, они в первый раз в жизни попали за границу. Остался мамин список – кому что привезти из-за рубежа. Мне – куртка и индейцы. Апачи! Настроение инструментальной музыки шестидесятых вполне соответствовало этому фону детства. Гениальная композиция Джерри Лордена “Апачи”, исполнявшаяся с начала 1960-х виртуозами-гитаристами Хэнком Марвином и Брюсом Уэлчем, служила эмоционально точным саундтреком к этим книгам и к этим фильмам… И Хэнк Марвин, с его лицом студента физфака МГУ 1960-х годов, отрывается на секунду от гитары, чтобы поправить на носу очки типичного ботана.