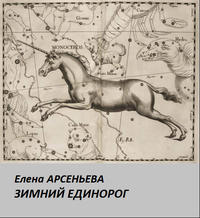Полная версия
Ваш милый думает о вас
Юлия невольно перекрестилась. Сорока всполошенно забила крыльями, спорхнула с окна, и только сейчас Юлия поняла, что на дворе уже ночь.
* * *На лестнице послышались торопливые шаги нескольких человек: вероятно, это хозяин провожал гостей в отведенные им комнаты, и множество других шагов. Юлия заметалась в панике, ввалилась в первую попавшуюся дверь – и с облегчением перевела дух: на кровати лежал ее салоп, на полу стоял ее баул – это отведенная ей комната. Слава богу, можно здесь отсидеться, можно не показываться, можно избежать встречи с насмешливыми глазами Сокольского и негодующими – Адама, можно собраться с мыслями. Она припала к щелке: пан Валевский вошел в боковую дверь. Адам и Зигмунд – в комнату напротив ее спальни. Так, ясно. Сюда, стало быть, их определили на ночлег, обоих вместе. А она одна. И еще час назад она не сомневалась бы, что лишь только сосед уснет, Адам выскользнет из своей постели и прокрадется к ней. А теперь? Как он поступит теперь?
Чтобы не мучиться попусту в догадках, Юлия сняла платье и как следует причесала свои круто вьющиеся светло-русые волосы, заплела в две косы – как всегда на ночь. Пришли на память две тугие Аннусины косы, переброшенные на пышную грудь, по которой блуждала ладонь Зигмунда, – и почему-то сразу настроение, без того неважнецкое, испортилось еще пуще. Стиснув зубы от злости на Зигмунда, на Аннусю, на себя, она спустила на пол сорочку и принялась мыться, благо хозяйство на этой захудалой станции велось на манер европейский и постояльцев ожидали тазы и кувшины с горячей водой. Намывшись дорогим парижским мылом, Юлия хмуро вынула из баула новую тоненькую сорочку и окутала в нее свое стройное, пышногрудое и длинноногое тело, зарозовевшее после горячей воды. Сорочка тоже была розовая, и когда Юлия увидела в зеркале, как приманчиво стекает мягкий шелк с плеч, какие нежные отсветы бросает ей на щеки, она отчаянно пожалела своей красоты, пропадающей без толку, и посулила злокозненному Зигмунду нынче же ночью свершения всяческих неприятностей, с которыми он не смог бы развязаться во всю свою жизнь.
С улицы донеслись голоса, и Юлия, не сдержав любопытства, подскочила к окну. Неужели кто-то еще приехал? Если среди новых гостей будет дама, вполне может статься, что Юлии придется потесниться: в ее комнатке есть еще одна кровать, и тогда… тогда Адам… Ох нет, слава богу! Приезжих во дворе не было, а хозяин и работник выводили под уздцы из конюшни лошадей.
Батюшки! Да ведь это уезжает пан Валевский – его орлиный профиль и сутулые плечи Юлия узнала даже во мраке, рассеиваемом лишь тусклым фонарем. Куда это он собрался?! Надо полагать, дела, зовущие его в Варшаву, столь неотложны, что вынуждают отправиться в путь ночью, не отдохнув, да еще в самую непогоду. Незаметно разыгралась на дворе настоящая буря, полил дождь, ветер беспощадно трепал голые ветви, и Юлия мимолетно подивилась, почему ноябрь по-польски зовется листопадом, в то время как уже давным-давно на деревьях не осталось ни разъединого листочка. Так, а для кого же вторая лошадь? Вглядевшись, она тихонько взвизгнула от радости, узнав приметный плащ с пелериною, обтянувший широкие плечи.
Да ведь это Сокольский! Сокольский сопровождает пана Валевского! Верно, важные дела зовут в Варшаву сего наполеоноподобного господина. И тут Юлия, ахнув, даже по лбу себя шлепнула: как же ей сразу в голову не пришло! Да ведь сей Валевский потому столь схож с Бонапартом, что он – сын Корсиканца и той самой легендарной польской красавицы Марии Валевской. Да конечно, конечно же! Юлия слышала прежде, будто Флориан-Александр-Жозеф-Колонна, граф Валевский, родился в 1810 году, а в 1824 впервые появился в Польше. Не по годам развитый, образованный, привлекательный, вдобавок овеянный наполеоновской легендой, он заинтересовал не только варшавских столпов шляхетства, но и великого князя Константина Павловича, которого встревожило появление сына Бонапарта, носящего, кроме того, историческое польское имя. Сначала Константин пытался привлечь его к себе и, невзирая на молодость, даже предложил ему должность личного адъютанта. Но, поскольку надменный юноша был решительно против службы у тех, кто сокрушил величие его отца, отношение к нему властей круто переменилось: за Валевским был даже установлен негласный полицейский надзор. Сыну Наполеона быстро надоело это притеснение, и он стал хлопотать о выезде во Францию. Когда длившиеся несколько месяцев попытки получить паспорт оказались безрезультатными, он решил уехать нелегально. Переодетый, после многих приключений, он добрался до Санкт-Петербурга, а там проник на английский корабль, которым и доплыл до Франции.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Пожалуйте сюда(польск.). (Здесь и далее примечания автора.)
2
Кунтуш – польский кафтан.
3
Прошу прощения(польск.).
4
Спаситель(лат.).
5
Подхорунжий – подпрапорщик(польск.).
6
Братки, левконья, румянки – анютины глазки, левкои, ромашки(польск.).
7
Загонова шляхта – мелкие, беднейшие дворяне(польск.).
8
Персонажи романов Е. Арсеньевой «Тайное венчание», «Опальная графиня» («Возлюбленная Казановы»), «Обретенное счастье» («Шальная графиня»), «Звезда королевы» («Дуэль на брачном ложе»), «Бог войны и любви» («Поцелуй фортуны»). Книги выходили в издательстве «Эксмо» также под другими названиями.