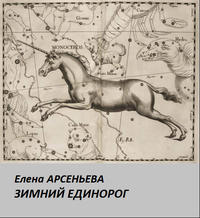Полная версия
Ваш милый думает о вас
Почему-то сия незамысловатая история тронула Юлию до глубины души. Вот здорово, подумала она тогда, если бы такое чудное приключение произошло с ней! А то жизнь так скучна, так однообразна! Она бросила упрек небесам и попросила для себя чего-нибудь эдакого, невероятного…
С чего началось приключение отчаянной герцогини? С переодевания. И первым делом Юлия переворошила все шкафы и сундуки и отыскала синее мериносовое платье с белой кружевной отделкой – одно из ее домашних платьиц времен еще институтских. Букольки уложила как можно скромнее, ну а капор своею незамысловатостью заставил бы зарыдать от умиления даже самую суровую бонну. Она знала все черные ходы в доме, укромные переходы, известные только прислуге, и ей не составило труда ускользнуть от бдительного ока взрослых этими тайными путями. Без помех выбралась и за ограду сквозь укромную калиточку в проулок, повернула за угол – и просто-таки ощутила, как растворилась в суете и гомоне Нового Свята – главного променада Варшавы.
Воздух города пьянил, дурманил, Юлии хотелось зайти в каждую лавочку, постоять у всякой витрины, примерить каждую шляпку, напяленную на восковую раскрашенную болванку, приложить к платью всякий кружевной воротничок, приостановиться возле всякой торговки, купить золотистых, пузатеньких, горячих, усыпанных маком бубликов, называемых «пляцки», или – о, ужас! – насыпать в карман семечек! И букетик, хоть самый простенький, из братков, левконьев или вовсе румянок[6]. Ну что-нибудь сделать такое, чего она никогда не делала! Однако цель ее пути была впереди. И она не хотела разменивать на маленькие радости большую, главную, заветную. Чашка кофе в «Вейской каве» – вот это приключение! Вот это эпатаж!
«Вейска кава» – «Деревенская кофейня» на окраине Варшавы, место самое любимое и всеми посещаемое. Все Юлечкины подруги там побывали и наперебой рассказывали о прелести этого местечка, о раскованности (но не распущенности!) тамошних нравов. Ну и уж само собою – в доме Аргамаковых посещение «Вейской кавы», этого гнездилища разночинцев, загоновой шляхты[7], как презрительно выражался князь Никита Ильич, было мало сказать запрещено – немыслимо, невозможно! А коли так, Юлия, «неслух своеобычный», непременно должна была там побывать.
И побывала! Она сидела на лавке за широким деревянным столом, она глядела на очаг, уставленный множеством кофейников и гарнушек с кипячеными сливками, она с упоением прихлебывала горько-сладкую, мутно-пенистую «каву» – как все! как взрослая! как настоящая эмансипе! Сначала ежилась от смущения, но постепенно освоилась и даже отвечала – глазами, разумеется! – на заинтересованные взгляды молодых щеголеватых панов, втихомолку мечтая, чтобы кто-нибудь попытался с нею заговорить. Но хоть мужчины и щедро одаривали ее взорами, никто, даже белокурый и очень красивый юноша, который просто-таки глаз с Юлии не сводил, не проронил ни словечка. Пооглядевшись, она поняла, что явно перестаралась с маскировкой! За три года, пока синее платье пылилось в шкафу, мода разительно переменилась. Теперь уже никто не носил платьица, перехваченные под грудью. Все платья обтягивали талию, юбки изящным веером распадались по полу, закрывая ноги, так что Юлия оказалась чуть ли не единственной дамой, выставившей на всеобщее обозрение не только туфельки, чулочки, но и кружевные оборочки панталон.
Главное дело, полны шкафы наимоднейших туалетов, а Юлия выглядит – хуже некуда! Наверное, тот красивый белокурый пан смотрел на нее вовсе не с восхищением, а с презрительным недоумением: откуда, мол, взялось этакое чучело?
Сияющий день померк. А стоило представить, что придется возвращаться, и тогда уже все увидят ее обветшалый туалет, как настроение и вовсе испортилось. Однако Юлия и вообразить не могла, какой ужас ждет ее впереди.
Она просидела в «Вейской каве» не меньше двух часов, и, хочешь не хочешь, наступала пора уходить. Юлия еще раньше заметила, что посетители, поднимаясь из-за стола, что-то кладут рядом со своими кружками, а потом половой, или, как его здесь называют, кельнер, уносит грязную посуду и то, что оставлено. Она пригляделась – это были монетки в один злотый. И, только увидав эти блестящие кругляшки, она поняла, в какую жуткую попала историю! У нее не было не то что злотого – ни копейки, ни алтына, ни полушки, ни гроша ломаного! Еще ни разу в жизни ей не приходилось что-то покупать самой, а значит, платить. Всегда рядом была матушка, которая указывала, куда прислать выбранную Юлией безделушку: дома и расплачивались с лавочником. Почему-то ей и в голову не пришло, что может быть иначе. И что теперь делать? Отправлять кельнера в особняк отца получить за чашку кофе?! Да и кто поверит, что плохо одетая паненка – дочь всесильного генерала Аргамакова?
Вдобавок поляки уж конечно не упустят случая поиздеваться над попавшей впросак русской. Нет, нельзя даже упомянуть имя отца, нельзя его скомпрометировать. Ох, не оберешься скандала! Кельнер уже и так поглядывает с подозрением. Что же с ней сделают? Позовут городового? Потащат в участок? Выгонят взашей? На глазах у всех, у всех, и у того золотоволосого красавца?! Мало того, скажет он, что одета безобразно, так еще и мошенница! И она едва не шмыгнула от ужаса под стол, когда этот красивый пан вдруг подошел к ней и почтительно поклонился.
– Пшепрашам, панна… – он запнулся, робко взглядывая в испуганные глаза Юлии. – Не вы ли уронили вот это?
Молодой человек нагнулся – Юлия проворно спрятала ноги под скамейку, чтобы он не заметил проклятые кружева панталон – и поднял блестящий кружок.
Злотый! Боже великий! Ее спасение!
– Да! – не задумываясь, воскликнула Юлия. – Спасибо! Спасибо большое!
Она помахала кельнеру, хмурое лицо которого выразило нескрываемое облегчение, и с признательностью воззрилась на своего спасителя, стараясь не углубляться в опасные размышления о том, впрямь ли монетка валялась под столом или юноша каким-то образом угадал, что у Юлии нет денег, и решил заплатить за нее столь деликатным способом. Чем не рыцарь? И он был так красив, так ласково улыбались янтарные глаза в обрамлении круто загнутых золотистых ресниц, так очаровательно вились надо лбом мягкие кудри, так трогала душу легкая улыбка, что Юлия не смогла отказать пану Адаму Коханьскому, когда он решил проводить ее до дому.
Оказалось, он учился в школе подпрапорщиков. Это несколько погасило романтический нимб, уже сиявший вокруг его золотоволосой головы. Юлии, часто видевшей подпрапорщиков, они казались необычайно угрюмыми и неприязненными существами. К тому же отец всегда был против обучения польской молодежи польскими же наставниками, уверяя, что там насаждают идеи возрождения Великой Польши, и школа подпрапорщиков – хорошая пороховая бочка, так же, впрочем, как Варшавский и Виленский университеты. Однако все подпрапорщики, вместе взятые, – это одно, а вот Адам – совсем другое! Прогулка с ним вдоль стены, опоясывающей Старый город, показалась Юлии упоительной. Руки ее были нагружены теми самыми букетиками незатейливых цветов, о которых она так мечтала. Адам, верно, решил не оставить без внимания ни одну цветочницу. Конечно, ни от одного из своих поклонников Юлия и помыслить бы не могла принимать такие бесцеремонные подношения, но сейчас по варшавским улицам рядом с этим пригожим кавалером шла вовсе не одна из богатейших невест России Юлия Аргамакова, а Юленька Корф, приехавшая из России навестить свою дальнюю родственницу, служившую горничной у супруги генерала Аргамакова. Она в придуманном не стеснялась, уверенная, что ее упоительное своей внезапностью приключение едва ли будет иметь продолжение. Однако, прощаясь с нею у маленькой калитки на задах аргамаковского дома, Адам вдруг робко попросил о новом свидании.
Юлия растерялась. Об этом она и мечтать не смела! Все происходило в точности как в той оперетке про отчаянную герцогиню. И все-таки – бегать на свидания! С мужчиной! Будто какая-нибудь горничная! Юлия в нерешительности взглянула на Адама, всем сердцем желая сказать «да» – и боясь этого.
Адам с улыбкой взял ее за руку – из целей той же маскировки Юлия не надела перчаток – и поднес к губам. Но не приложился почтительно, а повернул ладонь и, тихонько подышав на нее, провел губами от запястья к кончикам пальцев, щекоча нежную кожу своим теплым дыханием и шепча:
– Придете, панна Юлия?
Он не целовал ладонь – только касался ее шепчущими губами, и эти щекочущие прикосновения вдруг отняли у Юлии силы. Дрожь прошла по телу, загорелось лицо. Она вырвала руку, метнулась в калитку, не позаботившись запереть ее за собой, но успев отчаянно шепнуть в ответ:
– Приду! Приду! Ждите!
* * *Вот так все это и началось, но если Адам Коханьский оказался столь самонадеян, чтобы вообразить, будто именно он прельстил и соблазнил эту сорвиголову, то он ошибался. Прельстили ее и соблазнили недозволенная свобода, смелость обхождения и уверенность, что наконец-то она сама решает участь свою.
Юлии не раз приходилось слышать споры отца с матерью: в кого дочка такая уродилась? Романтический тревожный дух ее, замкнутый в слишком тесной сфере, бился как птица в дорогой клетке. И не зря князь Никита Ильич при виде дочери частенько вспоминал, как принц де Линь сказал Екатерине Великой: «Если бы вы родились мужчиной, то, конечно, дослужились бы до фельдмаршала!» И ее ответ: «Не думаю. Меня убили бы в унтер-офицерском чине!»
Вот из таких была и дочь его, про которую даже денщики говорили, мешая восхищение с неодобрением: «Не девка, а ветер из крымских степей!» Юлия качалась на качелях, едва не перекидываясь через перекладину, стремглав носилась в горелки или скакала без седла, запрыгивая на коня с разбега. Отец, видевший в ней враз и дочь, и сына, которого он так и не дождался, шутки ради научил ее стрелять и фехтовать, и делала это Юлия преизрядно. Не отставала дочь от отца и на охоте, которой тот предавался со страстью, ибо охота напоминала ему войну.
Многих женщин томили стеснительные нравы того времени, дамы пытались протестовать против отжившего порядка вещей ребяческой удалью, подражанием мужчинам, убежденные, что независимая жизнь уравновешивает положение женщины с независимым положением сильной половины рода человеческого. Женщинам хотелось привольной, другой жизни, но какая она вне кутежа, вне грубости, они понять еще не могли. Ища свободы, они находили разнузданность, распущенность. Ну а для таких пылких натур, как Юлия, живших не умом, а сердцем, никем не руководимым, вольно предававшимся фантазии, желанная свобода и воля сводились прежде всего к свободе в любви.
Впрочем, хотя прежде руки Юлии не раз просили, родители не неволили ее в выборе – точнее, в отказах. Так, одному императорскому курьеру, человеку премилого обхождения, с порядочным состоянием и связями при дворе, она отказала лишь из-за его фамилии – Пивововов. Если в мужском роде это звучало более или менее забавно, то в женском – Пи-во-во-во-ва – просто чудовищно! И уехал в Санкт-Петербург бедняга курьер, едва не плача, не зная и не понимая, за что была немилостива к нему красавица.
О, родители могли позволить себе не неволить дочь! Юлия до сих пор толком не знала, в шутку или всерьез отец к месту и не к месту вспоминает своего боевого друга, графа Белыша, с которым шел в двенадцатом году от Москвы до Парижа, а потом, отыскав во Франции похищенную жену свою Ангелину с дочкой Юленькой, обменялся с сотоварищем словом помолвить свою дочь с его сыном, которому в ту пору исполнилось всего семь лет. Впрочем, и невеста недалеко ушла от жениха: ей и года не было во время той заглазной помолвки! И хотя с тех пор ни единого разочку не объявлялись ни старый, ни молодой Белыши в доме аргамаковском, Юлии не больно-то легко было жить под дамокловым мечом могущего быть отцовского безоговорочного заявления: «Известно ли вам, милостивая государыня, что вы выходите замуж?..» Такие заявления в те поры были обычным делом, и Юлия могла почитать себя счастливой хотя бы оттого, что знала фамилию своего нареченного! Ей хотя бы не предстоит услышать жутковатого окончания фразы: «…а за кого – узнаете после!» И все-таки она не могла поверить, что такая судьба ей уготована. Выросшая в семье, вековым заветом которой была смертельная, обоюдоострая любовь, многажды слышавшая истории жизней Елизаветы Елагиной, Марии Строиловой и матери своей Ангелины Корф[8], Юлия доподлинно знала: на меньшее, чем продолжение семейных традиций, она не согласна. Она не уподобится множеству своих подруг, которые уверены, что любовь – лишь не существующая в реальности тема для разговоров и стихов модных Гюго и Мицкевича, а потому скорее готовы были выйти замуж без любви, чем остаться в старых девах: мол, сама соскучишься и всем наскучишь! Она будет ждать, искать, надеяться! И Адам, романтический красавец, всего лишь поцеловавший ее руку, но так, что она потом всю ночь видела буйно-страстные сны, показался ей именно тем героем, о ком смутно грезила душа.
Конечно, и помыслить невозможно было, чтобы отец позволил ей не то что замуж – на свидание к Адаму идти! Да и тот, конечно, еще сто раз подумал бы, прежде чем подойти к столу в «Вейской каве», когда бы знал, что за ним сидит не какая-то перепуганная хорошенькая паненка, а дочь всевластного генерала Аргамакова! Разве что начальник варшавских жандармов Рожнецкий стяжал более неприязни в Польше, чем этот генерал от кавалерии, в 1813 году бравший Варшаву воистину огнем и мечом, теперь – один из ближайших друзей великого князя Константина Павловича, ненавидевший даже упоминание о Речи Посполитой и не скрывавший раздражения ко всему, что казалось ему чуждым русской жизни!
В отличие от отца Юлия никакой особой беды в польском гоноре не видела. Разве просто расстаться с воспоминаниями о былом могуществе Великой Польши?! И потом, разве справедливо, к примеру, что Франция, зачинщица войны, осталась независимой, просто сменила диктатора на законного, богом данного монарха, а Польша вовсе утратила волю свою и была насильственно разделена между победителями?! Понятно, что поляки не жалуют русских, видя в них захватчиков. Впрочем, чем так уж особенно хуже жизнь в Варшаве, чем жизнь, скажем, в Москве, было бы затруднительно определить даже самому недоброжелательному взору.
Рассуждая так, Юлия не учитывала одного: французы для русских были чужаками, поляки же – братьями, предавшими братьев своих в последней войне… Как предавали, впрочем, нередко и в века минувшие, снюхиваясь то с турками, то с немцами, то с ливонцами, то со шведами – лишь бы посильнее уязвить Россию во имя удовлетворения того самого ненасытного польского гонора, который вошел в пословицу. Юлия была слишком молода и, честно сказать, еще глупа, чтобы видеть в каждом частном поступке или чувстве отражение вековой неприязни двух славянских народов. Она знала только, что ей безумно нравился Адам, однако не видать его как своих ушей, ежели положиться на добрую волю отца – да и самого Адама. «Что бы ни говорили о возвышающей силе любви, все любят ради себя, а не ради того, кого любят!» – думала Юлия. Вот он, вожделенный случай взять наконец свою судьбу в свои руки, распорядиться ею как желательно! А если ради этого нужно пойти на небольшой обман – за чем дело стало?!
«Ваш милый думает о вас!»
А может быть, не так уж все страшно обернулось, как показалось Юлии с перепугу? В конце концов, ее любовь к Адаму не уменьшилась оттого, что он бросил какое-то там дело ради побега с нею. Так неужто ж и Адам не смягчится, поразмыслив, сколь многое она покинула ради него? Любовь извиняет все, а потому Адам должен простить ее! Что бы сделать, как бы поступить, чтобы уж наверняка этого добиться? Не поговорить ли с ним, не объясниться ли начистоту? Или, напротив, затаившись, ждать, пока он сам явится к ней с упреками – и развеять все их слезами, мольбами, ласками?
Адам такой нежный, такой ласковый – устоит ли он, если Юлия кинется к нему с жаркими поцелуями? Неужто не растопят они лед его обиды?
Ах, что делать, что делать? Вот ежели бы оказался рядом кто-то премудрый, преопытный, с кем можно было бы посоветоваться!
Юлия задумчиво поднялась по лесенке и очутилась в квадратном коридоре, уставленном по углам креслицами и диванчиками. Даже кадка с фикусом поместилась в этом тесном, но уютном местечке, назначенном, верно, для отдыха и бесед панов проезжающих. Однако сейчас в укромнейшем уголочке возле деревянного инкрустированного столика одиноко сидела немолодая женщина, одетая в черное платье с белым кружевом и черный чепец. Единственное, что разнообразило ее унылый туалет, это тонкая шаль дивного переливчатого оттенка: не то темно-синего, не то темно-зеленого, да еще с золотым блеском. Дама была столь маленькая, тщедушная, что пряталась за могучим фикусом, будто птичка от дождя под веточкой.
Юлия отвесила незнакомке легкий полупоклон и задумчиво воззрилась на полускрытые портьерами двери, выходившие в коридор: которая, интересно бы знать, ведет в отведенную ей комнату? Хорошо бы там отдохнуть, поуспокоиться, обдумать, как быть дальше…
И вдруг какое-то движение отвлекло ее взор. Она глянула в сторону дамы – и увидела, что та перетасовывает карты и раскладывает на столике пасьянс.
Юлия любила пасьянсы. Любила пустяшные вопросы, на которые можно было найти ответ, если картинки сложатся так, а не иначе, любила двуличные, двусмысленные изображения карточных королей, дам, валетов, их застывшие, надменные, насмешливые лица, в которых таился намек… Карты могли пророчить, и Юлии всегда хотелось по-настоящему поворожить на судьбу, но ни одной истинной гадалки, вроде знаменитейшей мадам Ленорман, предрекшей Наполеону его восход и закат, она еще не видела. А вот эта дама в черном очень похожа на гадалку…
И не успела она так подумать, как дама подняла на нее лицо – его тонкие черты, подернутые вуалью морщинок, хранили следы красоты замечательной! – и с улыбкою спросила:
– Не желает ли пани изведать свою судьбу?
Юлия изумленно уставилась на даму, почти испуганная тем, что небеса так скоро отозвались на ее мольбу и послали ей столь необходимую советчицу. В ее по-птичьи остреньком личике было что-то маняще-коварное, льстиво-лживое, как во всех карточных дамах, вместе взятых, и Юлия, неотрывно глядя в миндалевидные, жгуче-черные глаза, глядевшие на нее с властно-насмешливым выражением, согласно кивнула. Как зачарованная, подошла она к даме, села, покорно сдвинула («Левой рукой, от сердца!») часть колоды, потом еще раз, еще… потом с быстротою вихря на столе раскинулся веер карт – и гадание началось.
Надобно сказать, что для этой цели незнакомка вынула из шелковой черной сумочки совсем другую колоду – не ту, которую использовала для пасьянса, ибо «судьба пустых забав не любит», как пояснила она с чрезвычайной серьезностью, от которой у Юлии холодок побежал по спине. Она никогда прежде не видела таких карт: фигуры на них были изображены в полный рост, и когда она хотела перевернуть одну даму, оказавшуюся вверх ногами, гадалка испуганно схватила ее за руку: «При перевороте фигура получает совершенно другое значение!»
– Перевернутая Бланка означает, что загадывающее лицо в беспокойстве! – вглядываясь в карты, произнесла гадалка, и Юлия подумала, что ее беспокойство у нее на лице написано, да и разве обратится к гадалке человек, у которого на душе спокойно и нет тревожных мыслей? Она поправила снисходительно:
– Меня зовут Юлия, а не Бланка.
Гадалка с легкой улыбкой объяснила, что бланка – это карта, означающая Юлию. Не бубновая дама, ибо ею может оказаться вовсе другое лицо – а именно особенная, отдельная карта бубновой масти, и это – «млада, ладна панна».
В своей привлекательности Юлия никогда не сомневалась. Карты, значит, тоже в этом уверены? Спасибо им!
– Млада, ладна панна сейчас в гостинице, – сообщила гадалка.
Поразительная наблюдательность! Неужели, чтобы установить это, нужно так внимательно всматриваться в перевернутого туза червей и короля той же масти, лежащего вниз головой, а не оглядеться вокруг?
– Перевернутые валет червей и бланка означают, что панна думает о молодом человеке, – сказала гадалка, и, не успела Юлия усмехнуться: «А что, есть панны, которые не думают о молодых людях?», уточнила: – Панна полагается на одного человека – видите, бубновый король рядом с семеркой пик? – но четыре семерки гласят, что это – неверный человек!
Юлия растерянно моргнула. Адам – неверный человек?! Глупости какие. Впрочем, да, Сокольский говорил же о дезертирстве… Ну, это ничего! Слово «неверность» имеет для Юлии, как и для всякой женщины, одно, совершенно определенное, значение.
И тотчас гадалка ее успокоила:
– Молодой человек страдает от любви.
Ну слава богу! Знать, еще не все потеряно?
– Ах, военный переменится к вам!
Военный? Какой еще военный? Он-то откуда в колоде взялся? Ах да, это Адам с его школой подпрапорщиков! Или несусветный Зигмунд? Он, стало быть, изменится к Юлии? Да зачем ей это?! Нет, нельзя ли поточнее?
– Вы разойдетесь с молодым человеком.
Это нечестно! Ведь, моля о совете, Юлия хотела услышать одобрение, а вовсе не безжалостный приговор! Впрочем, с чего это она так отчаялась? Почему слепо поверила незнакомой женщине, которая несет что в голову взбредет? Такое пристало бы наивной до глупости Аннусе, но уж никак не барышне, которая, одна из немногих, отважилась сама распорядиться своею судьбою! Надо сейчас же пойти прочь, не слушать более эту врушу…
Означенная «вруша» тем временем быстро собрала и перетасовала карты, а потом принялась метать их на стол по две-три, опутывая бланку их причудливым хороводом, опутывая Юлию вязью слов, гипнотизируя быстрыми движениями, мельканием разноцветных пятен, лживых улыбок, лукавых взглядов, суетливых гримас карточных персонажей:
– Вот восьмерка и валет червей. Ваш милый думает о вас! Но вы не должны упускать удачу. Вы собираетесь что-то сделать? И сделайте! Девятка и семерка бубен гласят, что промедление принесет вам неприятности. Последовав совету карт, вы сойдетесь с замечательным человеком. Видите этого короля червей? А рядом король бубен – стало быть, это влиятельный человек, большой барин, вельможа. Он ждет вас! Туз пик лег вершиной вниз рядом с бубновым валетом. Далее предстоит любовь с этим королем. Мало сказать… это страстная любовь. О, три туза, треф, бубен и пик указывают на беспутство…Беспутство! – значительно повторила она, подняв черные глазки на вспыхнувшую Юлию.
Слово «беспутство» очень не понравилось Юлии.
А гадалка продолжала:
– Будьте осторожны на пути забвения приличий: что-то приведет вас в отчаяние, более того – перевернутые десятка пик и восьмерка червей пророчат внезапное потрясение, удар!
Гадалка вскинула свою маленькую головку и сбоку, по-птичьи, взглянула в лицо Юлии. Оно давно утратило хмурое, недоверчивое выражение: Юлия сидела как пришитая, глядя во все глаза, слушая во все уши.
Спрятав довольную усмешку тонких лукавых уст, гадалка нетерпеливо передернула плечами – и заиграли синие, зеленые, темно-золотые огни ее шали:
– Это предсказание на ближайшее время. А вот что говорят карты о том, что в ногах бланки: что ей предстоит не так скоро. Та-ак… десятка пик и перевернутая восьмерка треф означают, что вы встретитесь с молодой брюнеткой. А перевернутый бубновый валет и червонная дама подсказывают, что это иностранка. Четыре девятки – вас ждет неприятная неожиданность. Четыре семерки – вас впутают в какую-то интригу. О, какие плохие карты! Берегитесь тюрьмы! Обратите внимание на эту десятку бубен и восьмерку червей – они пророчат вам дорогу… А что в конце ее?
Гадалка медленно, нарочито медленно вытащила две карты… пристально вгляделась в них и радостно закричала:
– Какое счастье! Перевернутый червонный король и туз этой же масти! Все окончится венчанием!
Юлия тупо моргнула, не веря своему счастью. Тяжелая рука страха, стиснувшая сердце, медленно разжалась. Стало быть, все обойдется?! Все беды избудутся?! Она уже расплылась было в признательной улыбке, однако гадалка никак не могла уняться:
– А теперь последняя карта. Карта судьбы!
Юлия воззрилась на нее с опаскою. Ну что это такое, будто на качелях качаешься: то взлетаешь к вершинам блаженства, то рушишься в пропасть отчаяния. Сейчас эта особа ка-ак ляпнет что-нибудь безнадежное, развеет сладостный туман мечты…
Но нет – лицо гадалки не утратило умильного выражения, когда она вытащила заветную карту. Впрочем, оказалось, что это две карты приклеились одна к другой, и гадалка восхищенно откинула руки:
– Червонная семерка! Червонный валет! Ваш милый думает о вас!
Сердце Юлии глухо стукнуло в самом горле.
«Ваш милый думает о вас!» Какие дивные слова!
Она зажмурилась, смаргивая внезапные слезы, а когда открыла глаза, ни гадалки в кресле, ни карт на столе уже не было. Сквозняк шевелил потертые портьеры на дверях, да с улицы постукивала клювиком в окошко сорока с белой грудью и черными крыльями, отливающими по временам то синим, то зеленым, то темно-золотым блеском.