
Полная версия
Призрачный поцелуй

Призрачный поцелуй
© Белоусова Л., текст, 2023
© Волкова Я., текст, 2023
© Гельб Дж., текст, 2023
© Гурова М., текст, 2023
© К.О.В.Ш., текст, 2023
© Мартин И., текст, 2023
© Нова Т., текст, 2023
© Новоселова М., текст, 2023
© Рауз А., текст, 2023
© Харос Р., текст, 2023
© Хейл Н., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *
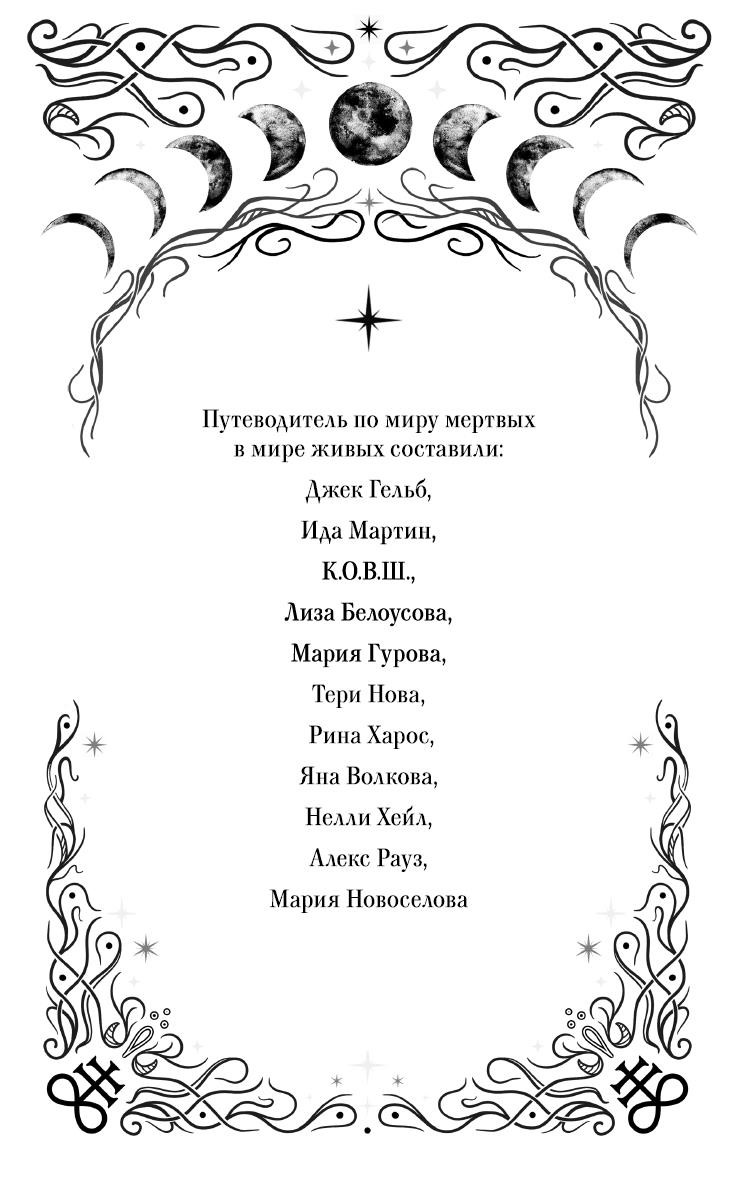

Мария Новоселова
Призраки в ожидании героев

1. Пять ассоциаций со словом «призрак».
Летние сумерки, холодный ветер, скрип деревянных половиц, запах деревенских яблок, блики солнца в чашке с чаем.
2. Есть ли жизнь после смерти?
После смерти есть дорога. Каждый идущий по ней одинок, но иногда он может встретить на своем пути такого же путника и разделить с ним все чудеса, которые встретятся им на пути.
3. О чем эта история?
Эта история о девушке и ее призраке, о котором она забыла, когда выросла.




Говорят, что призраки оживают только ночами, их кожа сухая и пыльная, как страницы старых книг, а голоса подобны шороху паучьих лап. Говорят, что призраки злопамятны, и говорят, что они таятся в душе каждого, прямо позади желтых костей скелетов в шкафу. И еще говорят, что каждый уважающий себя писатель должен написать хотя бы одну историю о призраках, чтобы те не пугали его вдохновение. Но что, если призраки и вдохновение суть одно?
Мой призрак был старой картиной, нежившейся в лучах солнца, когда губы еще помнили сладкий вкус бабушкиной клубники, а руки зудели от укусов комаров. Много лет назад ее нарисовал покойный друг моего отца – опьяневший от безвестности и нищеты художник, имя которого стерлось из памяти столь быстро, словно его начертили веткой на песке.
Я любила эту картину так искренне, как это может делать только ребенок, не одурманенный страхом показаться глупым или смешным, хотя и сама не знала, почему она меня в себя влюбила. Попав в какую-то неприятную историю, одну из тех, которые не принято обсуждать в компании детей, художник расплатился ею с отцом, благодаря чему последний надолго стал предметом маминых шуток. Сама же картина была сослана в деревню, и лишь редкая возможность вновь увидеть ее скрашивала мой вынужденный отдых там.
Рассохшаяся от времени деревянная рама обрамляла неказистый натюрморт: бутылка из-под вина цвета травы, сиротливо стоявшая на газете, заменявшей скатерть; горбушка черного хлеба и несколько переспелых фруктов, то ли персиков, то ли яблок, нарисованных так, словно художник отродясь не видел ни того, ни другого. Однако, как уже было сказано ранее, это история о призраке, и призрак действительно был.
Незатейливая прелесть первой картины блекла под блеском той, другой, что затаилась под кожей холста, не отягощенная тяжестью чужих насмешливых взглядов, но лишь одного восторженного – моего.
Бледная, с сине-лиловым отливом штора качнулась под порывом ветра, очертив контур молодой девушки, стремившейся внутрь комнаты. Шероховатые мазки краски ласкали пальцы, пробуждая в голове какие-то новые чувства, от которых нестерпимо начинал болеть живот. Уродливая незавершенность ее лишь сильнее разжигала огонь фантазии. Мой личный призрак, моя дева в беде звала меня из нарисованной глубины, покачивалась и мерцала под порывом сквозняка и шептала только одно слово: «Спаси». Но я не спасла ее, я про нее забыла. Да, рыцарь забыл про даму своего сердца. Его подвигом стала работа в офисе, а его драконом – избалованная собачка размером с подушку. Такая сказка возможна только в нашем мире. Вечерами я пыталась писать, но тут же зачеркивала написанное; пыталась вспомнить, но сама не знала что. Однажды, между сном и дремой, призрак вновь явился мне. У него был запах весеннего ветра, а его силуэт обрамляла старая тюлевая штора. Как и двадцать лет назад, он простер ко мне руки, и я ответила на его зов.
Сколько еще таких Муз бьются в плену на оборотных сторонах картин, между выхолощенными стерильными строчками книг, в одной-единственной искренней ноте посреди оттюнингованной фальши нового хита? Каким же будет мир, если их освободить? Хотела бы сказать, что знаю ответ, но я знаю лишь то, что готова отправиться на его поиски.

Белый щебень шуршит под старыми кедами, а спина ноет под тяжестью сумки, лямка которой нещадно врезается в плечо. Медленно, но верно я приближаюсь к знакомому дому, увенчанному красной крышей. Взбунтовавшийся ветер выдирает штору из окна, и она рвется ко мне навстречу, протягивая белые тюлевые руки. Я знаю, что мой призрак ждет меня наверху, укрытый тенями чердака; что время нещадно истерзало его прекрасный облик, да и глаза, что помнили его красоту, уже не те, что раньше. Но каждому писателю приходит время вновь встретиться со своим призраком, чтобы выпустить его из клетки; им обоим будет о чем поговорить в эту ночь.
Мария Гурова
Приложение

1. Пять ассоциаций со словом «призрак».
Память, причина, усталость, отягощение, обычай.
2. Есть ли жизнь после смерти?
Не могу быть уверена (иначе это было бы странно), но нет. Воспринимаю любую метафизику как сознательное, возможное только в пределах физической жизни.
3. О чем эта история?
«Приложение» – это история о наследии. Наследникам по праву достаются и чужие блага, и чужие долги. Только нам решать, боимся ли мы образов прошлого и хотим их изгнать или почитаем и помним. Хорошо, когда у нас получается понять их и найти для призраков то самое «лучшее место».




В девичьей загробного мира за прялками проводят века древнегреческая царевна, валькирия и средневековая дама. Как вышло, что ни одна из них не может покинуть комнату? И почему им нельзя говорить о возлюбленных?..
Пролог
Их просторная девичья была одарена всего двумя окнами, но высокими и светлыми, – на западе и на востоке. Обитательницы наблюдали восходы и закаты, а меж ними занимали дневные часы привычными делами: пряли, ткали и вышивали. Обжившись, они убрали комнату тремя видами звуков: грохотом ткацкого станка, разговорами и тихим дыханием, предваряющим сон. Станок гремел, опуская грузило, и будто ухал, как носильщик, скинувший тяжелые сумы ради передышки. Разговоры напоминали песни и были песнями. О былом легче пелось, чем говорилось, и потом – можно ли рассуждать спокойно о том, что уже никогда с тобою не сбудется? Когда и работа, и речь заканчивались, наступала тишина безвременья – отчетливо слышалась пустота места. Три девушки, которые жили здесь, провожали солнце: оно ныряло за вершины гор в западном окне. Потом они ложились спать и не видели снов. А наутро солнце карабкалось по небу, цепляясь лучами за взбитые облака, и с него летели золотые брызги прямо в водную гладь. Восточное море часто шумело, иногда успокаивалось, и тогда в нем плескалось еще одно светило, как близнец похожее на небесное. Впрочем, погода в обоих окнах не имела никакого значения: девушки не покидали девичьей и никого не ждали. Все три были некогда мертвы, а ныне живы в их ограниченном четырьмя стенами мирке. Не стоит о том грустить: они совсем не желали слез по себе и сами не предавались унынию – только воспоминаниям. Сознавая себя ныне мертвыми, девушки не ощущали тела ни бесплотными, ни неприкаянными, ни наказанными за прегрешения, ни одаренными за добродетели. Они в точности знали, сколько времени прошло с их смерти. Иногда ветра, которых одна из них называла Зефиром и Эвром, приносили им знания – бездоказательные и умозрительные,

Эпизод I
Песнь об Альде
«Да не попустят бог с небесным сонмом, Чтоб я жила, коль нет Роланда больше». Пред Карлом дама, побледнев, простерлась, Она мертва.
«Песнь о Роланде», CCLXVIIНемилосердная история разбросала лучших подруг по векам и землям, но, взглянув на души, смилостивилась и собрала их в странном месте, которое всем трем напоминала их девичьи. Они не помнили дней, когда жили бы здесь в одиночестве или в ином составе. Их бытность всегда являлась таковой, и триединство союза казалось единственно верным, хотя поначалу и непонятным: они долго искали причины распределения почивших людей в загробном мире. Упорно из века в век они рассказывали свои истории. Все три – Альда, Свава и Ифигения – при жизни были невестами великих мужей, чье сверхчеловеческое могущество прославило самих героев и каждого, кто имел честь стоять с ними рядом или даже против них. Вечную славу снискали их друзья, враги, отцы, мечи, кони и их возлюбленные. К счастью для троицы призраков, в девичьей собрали только последних. Ифигения суетилась слишком часто в нынешнем столетии, постоянно канючила как ребенок: «Давайте споем! Ну пожалуйста!» Она нервно теребила прялку – деревянную спицу с янтарной ступочкой – и твердила, что сейчас самое время говорить, а не наматывать нитки. Впрочем, Ифигении было простительно подобное поведение: хоть и царская дочь, а все же она была среди трех самой юной, если учитывать ее прижизненный возраст, в котором она простилась с миром. Но если уж говорить о возрасте культурном, то старше Ифигении ее подруги никого никогда не встречали.
Альда взглянула на царевну краем глаза, воткнула иглу в ткань, отложила пяльцы в сторону и подошла к ткацкому станку, за которым с утра трудилась Свава. Откинув тряпицу с сундука, где хранились швейные принадлежности, Альда на ощупь нашла гребень – точно такой же, каким Свава подбивала ткань.
– Не стоит нам петь, – недовольно шикнула та. – Совсем недавно пели. Теперь что? Хочет болтать – пусть о своих богах болтает.
– А ты о своих! – гневно ответила Ифигения и как-то совсем по-детски дернула Сваву за косу, пробегая мимо.
– Не ссорьтесь! Неправа ты, Свава. У нас под ногами второй день шуршит листва, громче твоего станка.
Свава сделала вид, что про листву ничего не услышала, но ее выдала треснувшая нить. Не злятся люди так из-за порванной нитки.
– Не хочу ничего говорить! И ее слушать не желаю!
В ответ Альда миролюбиво разгладила растрепанную косу, которую дергала Ифигения, и пошла к виновнице спора. Альда сняла с Ифигении лавровый венок и принялась расчесывать ее жесткие, жирные кудри.
– Мне не впервой начинать, – ласково предложила Альда, и у подруг не нашлось возражений. – Оливье говорил, что франкское солнце сияет ярче. Оливье говорил, что Карл, наш славный, принес на Запад его. Все так: я видела солнечные лучи в разрезе узких окон. Пусть всего пару месяцев в год они делали зеленее лес, а небо – делали синим, словно покрывало Девы Марии. Оливье говорил, я родилась в день, когда минула декада с коронации благословенного Карла в аббатстве Сен-Дени. Большая честь, говорил Оливье, родиться в такой день. Праздник начался за двадцать ночей до и продолжался столько же после. Музыка, вино и гомон празднества заполнили весь Париж, никто даже не слышал, как долго кричала моя мать, пока я не пришла незваной гостьей в одну из комнат дворца. А утром взошло летнее солнце, которое сияло ярче прочих. Герцог с сыном пришли посмотреть на новорожденное дитя. Оливье взялся за край пеленок – так он боялся причинить мне боль, что вовсе меня не касался. Я ничего тогда не знала о любви, но, если бы знала, могла бы почувствовать, как он меня любит. Отец, исполненный счастьем, поспешил рассказать королю. И Карл сказал, что я – его благостное знамение, что Бог послал меня, чтобы он преисполнился радости, что он будет любить меня, словно я его дочь или сестра, и что отдаст мне в мужья лучшего из своих рыцарей. Он сидел тогда подле короля, юный и не знающий, что я сейчас меньше, чем любой из его подвигов. А после обедни пришел епископ, причастил мою мать, назвал дату крестин и до того запер нас в комнате, повелев заколотить все окна. Так солнце исчезло из моей жизни, едва блеснув в волосах моей матери. Но мне повезло родиться в тот день, под тем солнцем.
Я росла в тишине севера, где в сезон разливался Рейн. Мое детское любопытство, еще не укрощенное, приковало меня к брату. Чудесное время открытий, которыми он щедро делился со мною. Он говорил о поэтах, о музыкантах, о рыцарях, о святых. Император Карл собирает всех просвещенных мужей в Ахене, говорил Оливье, он хочет открыть академию. «Что же, и Оливье хочет стать ученым человеком?» – спрашивала я. А он отвечал, что прежде хочет стать паладином и только в старости займется науками, если Бог ему это позволит. Я бы тоже желала, чуть было не призналась я брату, однако сдержалась. Вовсе не хотела, чтобы он счел меня дурочкой и перестал навещать. Оливье любил истории, любил их рассказывать. Чаще всего он повторял ту, где он стал рыцарем, а после – одним из двенадцати пэров. Еще была та, где он познакомился с Роландом. Их знакомство было многословнее и ближе, чем мое с женихом, перенесенное на будущую обещанную жизнь. Вся моя жизнь – это жизнь Оливье. Я тогда думала так: он проживает судьбу нас двоих. Кому ныне Карл отдаст это право – жить за меня, говорить за меня и любить за меня Оливье? Король обещал мне первого рыцаря. Имя Роланда носилось прытким галопом по устам поэтов и дам при дворе. Роланд любил Оливье, я любила Оливье, Оливье находил родство душ в нас обоих – он нас обоих любил. Не лучшее ли решение принял тогда король? Не Господь ли послал ему мысль скрепить нас тогда?
Четырнадцатую весну я встречала в новой тунике, с длинными рукавами на римский манер, расшитую по вороту жемчугом из Северного моря. Две золотые косы пролегли вдоль рено[1] – синего, как покрывало Девы Марии. «Невеста маркграфа Бретонской марки», – шептались девицы. Их перезвон пролетал, как подолы платка. Сватовство состоялось в часовне при Ансени. Он был могуч, хотя я смотрела издалека, из-под платка, по-над толпой, протекающей между нами.
Я все меньше и меньше. Я все меньше имею значения. Франкское солнце сияет ярче меня.
Он говорил с Оливье, мне поклонился, а Оливье передал серебряный венчик, сказал, что подарок и что мне к лицу. Я носила его день ото дня, как крест. И на моем лбу отпечатался оттиск, темно-зеленый, как глаза Роланда. Я теперь всюду искала приметы его: в шепоте девушек, в следах от венца, в памяти Оливье. Я все меньше и меньше. В памяти Оливье я все меньше и меньше.
Если перечислить слова: Сарагосский поход, предательство, арьергард, Ронсевальское ущелье, закрытые глаза, – там будет все его. Там меня нет. Даже когда уже не было Роланда, он был больше любого из нас – и больше меня, конечно же.
Если король винился перед дамой и бороду рвал на себе от горя, звал сестрой, желая расплатиться с ней сыном – наследником (самим принцем!), – чтобы цена была за Роланда справедливой, стоило брать ее? Но там, за Людовиком, не было Оливье, не было вросшего в голову венчика. Какая часть Роланда была отведена мне? Больше славы досталось его Дюрандалю[2], больше поцелуев его Олифану[3], больше любви – его Оливье. Я все меньше и меньше, словно скоро исчезну. Если вас спросят, можно ли приказать сердцу, знайте, я приказала. Во Франкском государстве существует песнь о паладинах, о лжеце и короле, о Роланде, вернейшем из вассалов, и там есть я. Мне там пятнадцать строк.
Так закончив, она сидела, бессмысленно перебирая кончики умасленных волос Ифигении. Свава тоже молчала и больше не истязала ткацкий станок. Однажды остановившееся сердце Альды теперь мерно стучало – наверно, завелось по привычке, чтобы не напоминать ей о роковом решении. Свава, тысячелетие назад впервые услышав историю дамы, восхитилась: «Какая великая воля! Приказать своему сердцу перестать биться!» Но из раза в раз восхищение меркло, а ветра не подбрасывали им в окна новых идей. Ифигения поправила:

– Нечестно. Ты же говорила, что они дописали. – Она обернулась через плечо: – Ведь дописали!
– За сотню с лишним лет я выросла из пятнадцати до двадцати шести, но также в них вошла, чтоб умереть, – согласилась Альда.
– Нечестно и это, – нахмурилась Ифигения.
– Ты о себе думаешь, когда говоришь, что нечестно, – недовольно пробурчала Свава.
– Что толку быть первой дамой двора и первой дамой в рыцарских песнях, если все, чем я оказалась приглядна, была только смерть? – одернула обеих Альда.
– Ты что же, жалеешь о своей любви? – Мысль взбудоражила Ифигению, она юрко развернулась к Альде лицом и села на кровати.
Находя их судьбы похожими, она рвалась в ее ответах разглядеть свою долю и найденное прибрать. Ифигения вела себя как жадный ребенок, а Альда была щедра, но бедствовала: ее алтарь не украшали новыми стихами. У нее вовсе не было никакого алтаря.
– Нисколько не жалею! Кто бы пожалел? Невеста Роланда – это много больше, чем ничего. У других ведь ничего. – Слова шли вразрез с чувствами, Альда шмыгала носом и сдерживала слезы.
– Поплачь, родная, – Ифигения гладила ее по спине.
Земные годы Альды раскинулись как ахенский сад и цвели все отведенное ей время. Она любила и иголки, и беспросветное ожидание, и робкие взгляды, и колокольный звон, зовущий на вечерню. Хотя у каждой здесь нашлось представление о загробном мире, Альда была в высшей степени не согласна с происходящим и одновременно с тем смиренна. Она утверждала, что чистилище приняло образ девичьей и что Господу еще предстоит взглянуть на их души и определить место каждой. Свава и Ифигения – язычницы, с их положением ей все было понятно. Но сама она, добросовестная христианка, чем провинилась? Видимо, чем-то. Теперь Альда упорно искала изъян в себе и своем прошлом. Но беда была в том, что в нем не было ничего, кроме любви и смерти, – прямых доказательств ее прилежной верности, чистоты и непогрешимости. Теперь, разочарованная собой, Альда плакала. Но Свава не любила, когда подруги рыдали. Да о грехах она знала только в пересказе Альды. Свава нервно оттолкнулась от вертикали станка и процедила Ифигении:
– Чего ты прицепилась к ее любви? Ты-то здесь при чем?
– Я его любила! – вспылила Ифигения.
– А он тебя?
– Перестаньте, пожалуйста, – потребовала Альда, но в свойственной ей одной мягкой манере.
Они безмолвно дулись какое-то время, и день замер на мгновение, чтобы ночь не наступила раньше, чем последняя споет. Ифигения не сдержалась.
– Если в пример поставить Сваву, – начала она, на что упомянутая девушка только смиренно вздохнула, – то выходит, что можно было сделать все то же самое, что и они, а взамен не получить того, что причиталось им. Что такого делал Роланд, что?..
– Помолчи, царевна, – перебила ее Свава. – Мы здесь о них не говорим…
– Ведь говорим же!
– …в отрыве от себя, – настояла Свава.
– Нелепое правило, – недовольно сказала Ифигения. – Ладно, неважно, что делал он. Что бы ты хотела делать, Альда?
– Будь точна, я не понимаю.
– Как иначе ты бы хотела прожить свою жизнь?
На том уже и Свава навострила уши. Она сама не раз задевала подруг непристойными для мертвых вопросами.
– Так бы и хотела, – спокойно ответила Альда и перестала плакать.
– Просидеть всю жизнь на женской половине и умереть девицей? – уточнила Ифигения.
– Да, – уверенно подтвердила она. – Сидеть на женской половине, любить Роланда и умереть оттого, что его больше нет.
– Потешаешься, что ли? – с сомнением спросила Свава. – Ты что, была проклята любовным зельем?
– Не была я ничем проклята! – Альду возмущали их сомнения. – Я любила свою жизнь, и была бы счастлива только с Роландом.
Они все упирались в вопрос «могло ли быть иначе?». Мертвые легко задавали его друг другу, но для себя самих ответов не находили. Получалось так, что они желали все, что возымели. По крайней мере, это касалось троих призраков в девичьей. Внезапно Ифигения воскликнула:
– Очередь Свавы петь!
– Кто решил, что моя? – ощерилась та в ответ.
– Мы, – ответили они дуэтом и, довольные единогласием, разлили по девичьей смех.
Свава прошлась по комнате, подметая лиственную труху льняными полами платья. Подхватив веретено, она отщипнула немного шерсти и приготовилась говорить. Свава всегда занимала себя работой, пока пела, потому что лучше всего ей удавалось петь и работать. Ее прижизненный промысел остался с ней навеки.
Эпизод II
Песнь Валькирии
Сделаем ткань
Из кишок человечьих;
Вместо грузил
На станке черепа,
А перекладины –
Копья в крови,
Гребень – железный,
Стрелы – колки;
Будем мечами
Ткань подбивать.
Песнь валькирий, «Старшая Эдда»Свава пела протяжно, и голос у нее был низкий, с надрывом и хрипотцой, не свойственными девушке. Но ей и петь приходилось дольше: на то было несколько причин. Первая – судьба ее насытилась событиями вдоволь. Она была полнее, чем судьбы двух подруг, вместе взятых. Свава затянула:
– Датская осень несется листвою, на тихий залив спускается рябь – то корабли отцовского флота вернулись домой зимовать. Хальвданов чертог зашумел, потеплел. У очага разложили щиты. На кожаной кромке остатками плоти залег неприглядный узор. Не кости ли это убитых врагов? Не кожа и зубы присохли на краске? Но женщина, та, что готовила мясо, закинув на щит олений обрез, меня попросила ей не мешать. «Шла бы ты, Кара, отца привечать. Конунг вернулся с добычей и славой. А ты все сидишь у огня».
С чего бы там быть человеческой крови? С чего бы мне знать, что бывает с щитом? То было беспечное девичье время. А после я вспомнила все. Здесь все мои дни: они горестным весом легли пред глазами в сюжет полотна. Мой ткацкий станок заменяет мне вельву. Я здесь, чтобы ткать стяг боевой[4]. Лен собираю по бранному полю, пряжу из жил подбиваю мечом. Вместо грузил на станке черепа, а перекладины – копья в крови[5]. Кто еще ее видит на моем хангерке?[6] В косах запутался лебяжий пух и стойкий, железный, тягостный запах. Чешу гребешком багряные нити. И волос мой рыжий от крови чужой. Кто еще это видит? Почему все молчат? Я часто хожу по промерзшей земле и делаю все, что мне велено делать. Вот я тку шерсть на приданое сестрам. Вот я тку стяг на погибель врагам. Вот несу чашу, полную меда, ярлу Гельсвону, он еще жив. Вот несу чашу, полную меда, ярлу Гельсвону, он уже мертв. Вот мой отец, вот и наш Всеотец. Вот он мой дом и рядом Вальгалла: путь недалек, стоит быть вам крылатым или же мертвым. Я терплю столько жизней, уставая от каждой. Высокая честь.
Вторая причина многостишия ее песни была не очень честной по отношению к Альде и Ифигении. Свава мало того что заполучила жизнь яркую и свободную, так еще и не одну. Закончив историю под именем Кары – о своем третьем обличье, она запела о втором – о Сигрун. Она часто переставляла их местами, меняя порядок, будто оттого могла измениться суть. Может, она и менялась.
– В Эстерготланде лето. Воины конунга Хегне полгода в набегах. Мы ходим за ними назойливой сворой. Нас девять таких, неприкаянных дев, обремененных мечами и копьями. Подола – тела павших тянутся вдаль. Никто нас не тронет. Мы стоим, не страшась, среди поля боя, бурлящего в море. Мы в рубахах и платьях, в платках и плащах. На поясе каждом висят гребни, ножи, костяные иголки, латунные пряжки и шкуры зверьков. Мы не носим кольчуг, нам не нужно щитов. Наша броня – это званья валькирий. Нас не тронет никто. Мы не ведаем, как сражаться на врученных Одином копьях.


