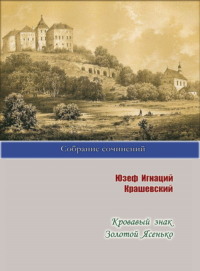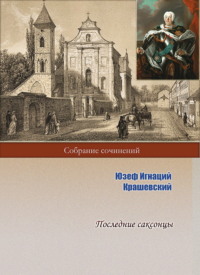Полная версия
Семко
– Чем живёшь? – спросил один из паношей.
– Милостью Божьей и панской, – смиренно ответил Бобрек. – Для бедняка и крошек, падающих со стола богачей, хватает. Напишу благословение, произнесу молитовку, прочту Евангелие, пропою набожную песнь. Не одному дорогой привилей захочется приказать переписать детям. Заклинаниями от лихорадки, от других болезней для ношения на груди, и другими письменными святынями также могу обеспечивать.
Затем Семко прервал вдруг:
– Вы из Познани? Значит, оттуда идёте?
Бобрек немного колебался с ответом.
– Немного раньше я из Познани, – сказал он, – человек тащится от двора до двора, от местечка к местечку, не как хочется, а как можется.
– А не ограбили вас там по дороге? – вставил весело один из шляхты.
Бобрек показал свою бедную одежду и пустые карманы. – С меня нечего взять, – сказал он, – пожалуй, жизнь только, а это никому ни к чему не пригодится.
– Ежели теперь не имеете никакой работы, – сказал духовный с цепью, сидевший за столом, – приходите ко мне, найду вам что-нибудь переписать. Но лишь бы какой писаниной от меня не отделаетесь, потому что я люблю, чтобы было нарисовано, не написано, и литеры на бумаге должны быть как цветочки в поле.
Клеха низко поклонился, скривив уста. Семко немного ел, немного пил, беседуя со шляхтой, присматривался к Бобре-ку, может, в надежде, что такой убогий бродяга, как это было в обычае, начнёт шутить, забавлять их и побудит к смеху. Но Бобрек казался для этого непригодным, только смотрел исподлобья, облачаясь в такую покорность и униженность, что аж жаль делалось, глядя на беднягу, а это унижение монашеской одежды пробуждало сострадание.
Аудиенция, данная бедняге, казалось оконченной; пришельцу уже было нечего там делать, получив от канцлера обещание дать работу, но не выгоняли его и он сам выходить не думал. Он стоял у двери, притулившись к стене. Духовная особа с цепью, княжеский канцлер, больше других им интересовался. Чувствовал в нём брата по перу, потому что во всём этом довольно многочисленном обществе их, тех, что умели читать и писать, возможно, было только двое.
Бобрек, быть может, должен был удалиться, хоть уходить ему не хотелось, если бы в эти минуты во дворе не послышались живо скачущие кони, а опытное ухо сидящих у стола уловило, кроме топота лошади, звон железа, объявляющий о прибытии вооруженных людей.
Все обратили на дверь любопытствующие взгляды. Сделалось тихо, а в сенях голос маршалка объявил о чьём-то прибытии.
Как всегда, когда что-то производило на него чрезвычайное впечатление, Семко поднял голову и его брови грозно стянулись. Тогда его красивое и молодое лицо тем, кто помнил старого Зеймовита, немного напоминали его хмурый и строгий облик.
С головой, обращённой к двери, князь ждал объявление маршалка о прибытии какого-то гостя, не догадываясь, кто это мог быть. Впрочем, гость не был там редкостью, потому что шляхта охотно к нему приезжала. Пользуясь тем, что внимание было отведено от его бедной особы, клеха, стоявший у двери, немного отошёл от неё и прильнул к стене в углу так, что его почти было не видно.
Однако он не уходил.
К двери приближался голос маршалка, открыли две её створки и в дверном раме появилась, как бы оправленная в неё, красивая фигура, как статуя рыцаря. Мужчина был средних лет, весь как из железа выкованный, державшийся просто, высокого роста, одетый по-дорожному и по-солдатски.
С головы он не снял ещё блестящего шлема, на верхушке которого виден был растянутый на прутьях, завязанный белый платок, словно отмеченный кровавыми каплями.
Это была его эмблема – Старый Наленч. Не была она такой красивой для глаз, как у многих в то время придворных рыцарей и турнирных поединщиков, которые больше на панских дворах рисовались перед женщинами, чем в поле перед врагом.
Доспехи на нём не были ни позолоченными, ни эмалированными, они были простые, железные, но сделанные по мерке, для кафтана, и сидели на нём как с иголочки.
Все её части: наплечники, наколенники, нагрудник подходили друг к другу, а ремешков им в походе не ослабляли. Огромный меч на рыцарском поясе висел сбоку, маленький мечик имелся под рукой. Из железного обрамления выглядывало лицо с усами и короткой бородкой, мужественное, загорелое, полное, красное, с искренними и мужественными глазами, которые лгать не умели. Смотрели смело и гордо.
Увидев его, князь поздоровался, не вставая с сиденья, некоторые из шляхтичей, сидевших за столом, поднялись с лавок и вытянули руки, восклицая:
– Бартош! Бартош!
Он, сняв шлем, пошёл прямо к князю.
– Милостивый пане, – сказал он, – простите, что приезжаю как татарин… (он огляделся вокруг, как бы хотел быть уверенным, что чужих тут нет). Меня пригнало сюда большое и срочное дело.
– Но вы для меня всегда милый гость, – сказал Семко весело, любезно глядя на него. – Вы в доме, в котором, я надеюсь, воевать ни с кем не будете; идите сначала снимите тяжёлые доспехи и приходите к нам.
Рыцарь стоял ещё, улыбаясь приветствующим его паношам.
– Милостивый пане, – отпарировал он, – я только сниму с плеч это железо и обратно его сразу придётся надеть, потому что времени мало, срочная работа!
Он развернулся и ушёл, но по дороге братья шляхта вытягивала ему руки и задерживала, глядя с уважением и любовью.
Едва за ним закрылась дверь, пирующие князья очень оживлённо начали разговаривать.
– Бартош из Одолянова, Бартош из Козьмина, – разносилось со всех сторон. – Когда приезжает Бартош, то это не напрасно.
Канцлер тем временем, разглядывая залу, увидел в углу клеху. Дал ему знак.
– Идите в мою комнату, – сказал он, – подождите там капельку, незамедлительно приду.
Бобрку вовсе не хотелось оттуда выходить именно теперь, когда надеялся услышать что-нибудь интересное; он почесал себе голову, неловко поклонился, скривил губы и рад не рад вышел за дверь.
В сенях, немного подумав, всё ещё с той покорностью, которая, согласно пословице, пробивает небеса, но на земле чаще всего пробуждает презрение и пренебрежение, он у самого глупого из челяди, чтобы временно привлечь его на свою сторону, спросил, где комната канцлера.
Ему её сразу же показали, тут же около замкового костёла. Клеха пошёл в эту сторону, но или из неудержимого любопытства, или по привычке, по дороге он задержался около людей и коней, прибывших с паном Бартошем из Одоланова, который приехал поклониться князю.
Его духовное одеяние, хотя потёртое, всегда пробуждало немного уважения; слуги, выглядящие так же гордо, как сам пан, на вопрос: «Откуда прибыли?» – отвечали, что приехали с паном Бартошем из Калиша.
Одно это имя уже достаточно говорило.
В Куявии и Великой Польше имя старосты, пана на Одоланове, Венцбруке, Козьминке, Небожицах и Злотой было так повсеместно известно, что не нуждалось ни в каком объяснении.
Это был муж великой храбрости, живого ума, ничем не устрашимой отваги, беспокойного и предприимчивого духа и притом такой любитель рыцарских дел, что когда ему не хватало их дома, готов был искать и за границей. Может, это было ложью, но рассказывали, что, скучая по рыцарским турнирам и рыцарским забавам, порою он даже у крестоносцев их искал, а они, что польского имени и человека вынести не могли, пана Бартоша из Венцбрука уважали и хвалили, говоря, что ни тевтонским и никаким из рыцарей запада не уступал.
Но знали его также как гордого и непреклонного пана, с которым по-доброму можно было сделать всё, силой же – ничего, потому что над собой не терпел никого.
Ибо в военном ряду Бартош стоял за десятерых, бился страшно, а когда брал в широкие ладони обоюдоострый меч, готов был человека разрубить им пополам. С копьём в руке, когда им протыкал всадника, не было примера, чтобы кто-нибудь в поединке удержался в седле.
Это он был вызван на поединок Белым князем, и, когда должен был сдаться, так поранил ему копьём руку, что тот долго на ней вынужден был лежать и уже потом навсегда у него отпала охота к военному ремеслу.
Поэтому достаточно было сказать о Бартоше из Одоланова или из Козьмина, чтобы люди знали, что это означало или какую-нибудь войну, или рыцарские состязания.
Услышав это имя, клеха задумался, потому что и он знал его, и знал, что он впустую времени не тратит, а если прибыл в Плоцк, что-то тяжёлое вёз за пазухой.
Бобрек бросил взгляд на княжеский дом и – вздохнул, жаль ему было оттуда уходить, потому что бедняку было очень интересно подслушивать.
Вернуться назад, туда, откуда его отправили, было невозможно, и после короткого раздумья, он направился в комнату канцлера.
Ему легко было бы найти её, хоть не знал о ней, потому что как раз в такой же потёртой полудуховной одежде, с коротко постриженной головой, с большими руками, выступающими из тесных рукавов, стоял там у порога и зевал бледный подросток, то заслоняя ладонью рот, то делая знак святого креста перед ним, чтобы не пустить внутрь дьявола.
Был это, как он легко догадался, ученик, ananuensis, начинающий писарь при канцлере. Бобрек поздоровался с ним тем объявлением, что ему велели тут ждать. Они поглядели друг на друга, а так как скамья у стены была пуста и только кот дремал на ней, они сели вместе.
Местный мальчик, будучи там дома и чувствуя смелость, начал распрашивать взрослого странствующего клеху, откуда, зачем и от кого сюда прибыл.
Бобрек исповедался ему почти так же, как на дворе, и прибавил, дабы рассеять страх, что долго тут прибывать не думает. Поскольку он подозревал, что мальчик может на него косо и неприязненно смотреть, когда испугается, как бы у него хлеба не отобрал.
У мальчика, очевидно, только теперь уста открылись свободней, и на бросаемые вопросы он стал отвечать охотно.
В этом допросе Бобрек проявил необычайный талант получать из человека то, что хотел. Пустое словечко он запускал, как удочку, на конце которой дёргался червяк, и с каждым разом он что-нибудь извлекал из мальчика.
Служка описал не только своего пана, канцлера, но и князя Семко, и двор его, наконец самого себя и тех, что там когда-либо гостили.
Разговор или скорее вытягивание слов шло так красиво и гладко, что тот, кто исповедался, сам не знал, как всё разболтал, и что только было у него где-нибудь спрятано, выложил гостю.
Слушая, Бобрек не спускал взгляда ни со двора, ни с людей, кои по нему ходили, ни ускользнул от его ушей ни один возглас, никакое движение около панского двора. Глаза бегали живо, и чуть только показалась незнакомая фигура, о каждой начинался расспрос.
– А это кто?
Услышав имя, он тянул болтливого парня за язык: «Что он делает?»
В конце этой всё более доверительной и оживлённой ббеседы, когда канцлер, против всякого ожидания, не приходил, он спросил мальчика и о том, частым ли гостем в Плоцке был Бартош из Одоланова, который как раз сюда прибыл?
– Раньше тут его слышно не было, – ответил парень, – теперь уже немало раз приезжал.
– Князь его любит?
– Наверняка. Говорят, что до рыцарских дел это великий мастер, а князю они милы, потому что для них родился.
– И на охоту его, наверно, должны приглашать в Раву, а может, в Черск и Варшаву? – вставил Бобрек.
Парень покрутил головой.
– О Черске ничего не знаю, – сказал он, – для охоты у князей другие спутники, а это человек для войны. О нём говорят, что он, как те рыбы, которые в стоячей воде не выживают. Если бы войны не было, её бы специально устроили.
Бобрек со смехом похлопал его по плечу.
II
Хотя князь и его гости уже поели, и хотели снимать со стола скатерти, когда прибыл Бартош из Одоланова, велели принести для него новые миски и вино, которое привозили сюда прямиком из Торуни, поэтому его называли Торуньским. Поскольку у крестоносцев, хоть они жили войной, торговля теперь набирала всё большие обороты. Сами они не торговали, но под их боком и охраной этим занимались немецкие поселенцы. В городах их товаров было предостаточно, у них легче всего было приобрести всё заморское, будь то одежда, вооружение или еда.
Тот дорогой в то время индийский перец, имбирь, мускат, райские зёрна, всяческие приправы, которые любили, – немецкие купцы и для своих господ, и для тех, кто хорошо платили, привозили на кораблях.
В Торуни были большие и превосходные магазины вина, потому что чем попало поить крестоносца было нельзя, и гости, которые приезжали к ним из мира, были также привыкшими к хорошему.
Стол, занаво накрытый, ждал Бартоша, хотя часть шляхты, помыв руки, начала расходиться по замку.
Сложив доспехи, отстегнув меч, Бартош, в одном кафтане, только с маленьким кинжалом у пояса, вернулся, отдавая князю поклон. Кроме нескольких мазуров в конце стола, при князе остались канцлер и старый воевода, Абрам Соха.
Тот в военных делах, как при старом Зеймовите, так и теперь, был правой рукой, потому что имел разум, опыт и проверенную верность своим панам. Семко же, которому не было ещё двадцати лет, как раз не хватало того, что принёс гетман.
Сняв шишак и доспехи, каждый человек уменьшается, но Бартош в одном кафтане не казался ни более щуплым, ни менее плечистым, чем был в панцире. Лицо, которое теперь не обрамляло по кругу железо, полностью открытое, было ещё более красивым и достойным храброго рыцаря. На нём было прописано мужество, не хвалящееся собой, – происходящее прямо из крови, рода, обычая, и такое прирождённое, что ничто этого знака стереть не могло, разве что уничтожая этот красивый облик.
Князь Семко показал ему место недалеко о себя, и сам налил ему приветственный кубок.
– За здоровье!
Гость не дал себя упрашивать, залпом выпил, а затем достал нож, чтобы отрезать хлеба, потому что был голоден. – Откуда едете? – спросил Семко.
– Из дома и не из дома, – немного колеблясь и оглядываясь, сказал Бартош, точно хотел знать, кто его слушает. – В хорошем или плохом настроении, с искушением я сюда прибыл, оно жжёт мне губы.
Из медленной речи было видно, что этот рыцарь, которому с железом легко было обходиться, словом не так ловко владел и сам его боялся. Хотел, может, по-рыцарски сразу бросить нагую и откровенную мысль, а что-то его сдерживало. Боялся, как бы так прямо направленная, она не пролетела мимо цели.
– Милостивый пане, – продолжал он дальше, – то, что меня сюда пригнало, и для вас не безразлично. Мазовия само собой всегда Мазовия, и дай вам Боже счастливо ею править, но мазуров с нами, поляками, связывает старый и крепкий узел. Мы также к вам, а вы к нам принадлежите. Кровь Пястов течёт в ваших жилах.
Он поглядел, вздохнул, и снова начал. Шляхта, где какая была по углам, приблизалась, с интересом прислушиваясь.
– Король Луи, свети Господи над его грешной душой, умер в Тырнове в Венгрии!
Бартош ожидал, что эта новость произведёт и должна была произвести на всех впечатление, но он, конечно, не предвидел, что Семко она не затронет так сильно.
Князь сразу вскочил с кресла, опёрся на стол и крикнул:
– Луи умер!
Все в комнате повторили с какой-то тревогой:
– Луи Умер!!
Однако Семко после короткого размышления сел задумчивый. Его красивое лицо всё насторожилось, нахмурилось и покрылось морщинами.
– Луи умер! – шепнул он ещё раз.
Канцлер опустил голову, как если бы молился за покойного; Соха, не отрывая глаз смотрел на говорившего, ожидая что-то ещё.
– Вы точно об этом знаете? – спросил канцлер, поднимая голову.
– К Сигизмунду прибыли гонцы, ни для кого уже это не тайна. Нам осталась только одна королева с двумя дочками.
Он посмотрел на Семко, глаза которого были опущены.
– Милостивый пане, – продолжал он медленно, – наша Великопольша люксембургских младенцев себе не желает; ни бабского правления с фаворитами и губернаторами. У нас есть наша кровь, наших прежних панов. Много говорить об этом и ходить вокруг да около я не умею – поэтому говорю просто; на вас все смотрят, на вас! За принадлежащим вам наследством только протянуть руку, сама Польша вас просит!
Все молчали, подавленные этой великой открытостью Бартоша, но в глазах воеводы Сохи был виден страх и какое-то беспокойство. Он дивно хмурился, канцлер также стиснул губы, качал головой. Шляхта, стоявшая с Бартошем, горячо ему потакала.
Что делалось с Семко, угадать было трудно. Он сидел, устремив взгляд в стол, очень хмурый, то бледнея, то краснея, не смея поднять глаз, точно боялся, что они могут его выдать.
Так в молчании прошло какое-то время. Бартош к тому, что так открыто поведал, ничего добавить не смел; ждал, как тот охотник, что, выпустив стрелу, смотрит, убил ли зверя, или только покалечил.
После довольно долгого размышления Семко заговорил каким-то неуверенным голосом.
– Луи не стало, но у вас уже есть Сигизмунд. Всё-таки, я слышал, и в Познани, и в Гнезне его везде принимали как законного короля и пана, потому что сначала выбрали себе госпожой Марию, его будущую жену, и в этом поклялись.
– Неужели! – вздохнул Бартош. – Наша Великопольша никогда не хотела знать женского господства, а поскольку некоторых вынуждали силой, закрыв и заставив голодом, нас это всё-таки не связывает.
Мы теперь больше, чем когда-либо, увидев глазами Сигизмунда, знать его не хотим. Нарядный и гордый немчик думает нас топтать! Ни мы его, ни он нас не понимает, мы ему чужие, он – нам. Пусть возвращается туда, откуда прибыл.
Бартош, когда говорил, очень разгорячился, забыв о еде, которая остывала перед ним в миске, говорил, всё больше возвышая голос:
– Принцесса Мария… обещана ему, но не женаты. Они были детьми, когда её, так же как другую, Ядвигу, с австрийцем Вильгельмом сосватали. Но никакой свадьбы не было, только панское торжественное обручение и контракты. Духовные лица говорят, что таких детских свадеб костёл не знает.
Он обернулся к канцлеру, который после небольшого раздумья сказал:
– Декреталия брака между малолетними не знают. Если бы дошло до законного брака, обряд, наверное, нужно было бы повторить. Никакая это не свадьба, когда детей в пелёнках, из земных соображений, кладут в одну колыбельку.
Когда канцлер это говорил, Семко внимательно устремил на него глаза, слушая очень внимательно.
– На этом не конец, – отозвался Бартош. – Герцог Люксембургский обошёлся с нами, точно мы были тут не отцами, не рыцарями, а его куманьскими невольниками.
Вы знаете, что здесь живая душа не может терпеть Домарата из Перзхна, которого сделали губернатором, и его правой руки, этого кровавого дьявола, как его называют, Яна Пломенчика из Венца, Познаньского судью. Оба изверги, убийцы, угрожающие нашим жизням и имуществу. Они не правят нами по-Божьему, но кровь из нас пьют. Поэтому однажды наши просили Люксембургского: «Забери с нашей шеи Домарата и Домаратовых». Он гордо ответил: «Он над вами поставлен и вы должны его слушать. Не заберу его отсюда, а непокорных накажу!»
Мало того, в другой раз бежала за ним наша шляхта, умоляя и прося ещё: «Забери Домарата, потому что под его властью и с ним мы жить не сможем». Юнец крикнул на просивших и сказал им через своих слуг, что они поднимают бунт, что прикажет посадить вожаков в темницу на хлеб и воду. Даже смертью угрожал.
Этого нам уже было слишком. Великополяне, как один человек, кроме Домаратовых доносчиков, громко кричат: «Люксембурга не хотим, Люксембурга не хотим! Прочь его в Венгрию!»
Он уже сам чувствует, что здесь земля уходит у него из-под ног. У нас нет пана, а кого мы возьмём? Кого?
Семко сидел мрачно задумчивый.
– Вы присягали через своих послов дочери Луи, – сказал он тихо, – вы подписали это, привесили ваши печати. Клятвопреступниками быть не можете.
– Чьи там печати висят на той шкуре, – сказал Бартош, – тот пусть панну Марию считает своей королевой, а мы её не хотим. Если бы даже в конце концов кровь Луи по кудели пришлось уважать, то обе девки незамужние, хоть мать их обручила. Мы можем своего пана женить на одной из них.
Канцлер быстро поглядел, но затем, опомнившись, опустил глаза. Соха молчал, не давая знака позволения. Только шляхта Бартошу горячо вторила.
Семко молчал. Глядя в его лицо, можно было подумать, что его вели на пытки, так оно хмурилось, выдавая страшный душевный бой. Он молча схватил со стола кубок и одним залпом его осушил; схватил потом меч у пояса и начал его вращать, крутить, потом вытащил из ножен, и бессмысленно рубил стол, точно ему было легче оттого, что портил дерево и утомлял руки. Никто не смел говорить.
Бартош ходил по ним глазами и, хотя находил сопротивление, видно, не отчаивался, потому что лицо было очень спокойным.
После долгой паузы Семко, точно сам себе, начал невыразительно бормотать:
– Я и мой брат Януш мы помним отцовские поучения. Мудрый был пан, который в чужие дела никогда не вмешивался. Мы обязаны ему тем, что до сих пор спокойно сидим в нашей Мазурии. Тянули её не один раз после Казимировой смерти и при жизни. Хотели её крестоносцы, нападали другие, наши родственники силезцы не раз старались впутать в свои дела. Покойный говорил, что не хочет засовывать пальцы в дверь, чтобы ему их не придавило. Без войны он вернул Плоцк, принёс клятву верности, когда было нужно. Мы были и остались у себя панами.
Я также хочу остаться на своём.
Против Люксембурга будет горсть великопольской шляхты – и только. За ним и с ним краковяне и сандомирцы, и все те, вдобавок и крестоносцы. Немцы с немцем легко снюхаются. Против этих всех один Семко ничего не сделает. Брата Януша и железным шестом не поднять. Сидит он в своих лесах, хорошо ему в них, не двинется. Захочется ему польской короны – можно ради неё потерять Мазовецкое княжество.
Он говорил, и хотя это текло из молодых уст, канцлер, воевода, даже сам Бартош чувствовали, что разум в этой речи был.
Действительно, старый Соха, который не раз то же самое слышал из уст Зеймовита, отца, знал, что этот его разум был неограниченный; что повторял то, чему от покойного научился, что он ему при жизни постоянно вбивал в голову, но правда была правдой. Трудно было отрицать то, что бросалось в глаза.
Канцлер также сразу сказал:
– Святые слова, не пожелай чужого, чтобы своего не потерять.
А Соха добавил:
– Не искушайтесь, милый староста. Желать величия – это понятная вещь, но добыть его трудно, когда столько неприятелей, и в худшем случае даже на друзей нельзя рассчитывать. Столько плохого на одного. Ни казны, ни людей на это не хватит.
Бартош хмурился и одновременно терял терпение.
– Да что вы говорите! – сказал он. – Кто сокола на цаплю не пускает из опасения, как бы клювом его не пробила, тот перьев цапли на колпаке носить не будет. Ради той Болеславовской короны и принесённого с небес Щербца стоит всё-таки чем-то пожертвовать, потому что и немецкая императорская корона ясней, чем эта, не светится.
– Ха! Ха! – громко рассмеялся Семко. – Этой короны нам уже не увидеть, раз мы её однажды отдали из Гнезна. Покойный Луи увёз её с собой и запер в Буде!
– Э! Мы пошли бы за ней, разохотившись, и в эту Буду, – ответил живо Бартош, – если бы только было с кем и для кого. Не хватает мужества; с ним бы и корона была.
От этих шутливых слов Семко весь задрожал. Пламень облил его лицо.
Он поглядел на Бартоша и прошил его взглядом как стилетом. Чёрные брови на лбу стянулись в одну и губы начали трястись. Ножик, который он держал в руке, глубоко вонзился в дерево и отсёк большой кусок.
– Мужества бы хватило! – крикнул он сильным голосом. – Но разум также нужно иметь!
Канцлер и воевода поддакивали князю и хвалили; шляхта хмуро молчала.
Бартош молча взял хлеб и принялся за остывшую еду. Никто не смел заговорить, потому что видели уже, что Семко разгневался, и хотя он был молод, когда в нём играла эта отцовская кровь, знали, что был готов ножом, который дрожал в его руке, бросить в человека.
Но он сразу успокоился, остыл, выпил из пустого уже кубка и задумался.
– Домарата, не Домарата, – сказал он медленно, – примите в конце концов того, кого вам назначат. Война и беспокойство в доме надоедят. Помиритесь с Сигизмундом и Марией.
Гость только покрутил головой – его лицо вовсе не изменилось, чувствовалось, что это княжеское высказывание не считал последним словом.
– Ни я, ни те, кто держаться со мной, – сказал он медленно, – помириться не можем. Уже достаточно краковяне нами верховодили. Сами собой хотят всё делать, а что у них с носа упадёт, навязывают нам, как этого Домарата. Позор для нас, полян, из которых эта корона вышла и величие родилось. Нет, не дадимся в неволю краковским панкам, бабам и головастикам. Хотят войны – будет война!
Он ударил сильным кулаком о стол и есть перестал.
– Не я один это говорю, милостивый пане, – прибавил он, – потому что я, хоть чувствую в себе немножко силы, не рвался бы с мотыгой на солнце. За мной стоят другие, а число нас немалое. Вицек из Кенпы, воевода Познаньский, то же самое думает, Судзивой Свидва, да и все Наленчи, сколько их есть, и друзья и родственники. Наленчи тут старше, чем Гжималы, предки которых недавно из Германии свою Городскую браму принесли. Наш Окровавленный платок тут такой же старый, как христианская вера; мы тут здешние.