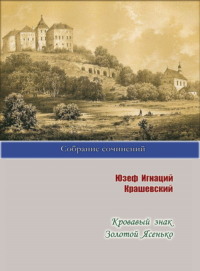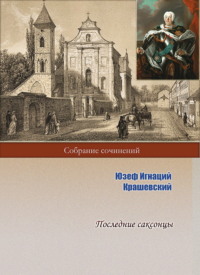Полная версия
Две королевы
– Вы у меня редкий и очень желанный гость, милый Струсь, – произнёс епископ, – здравствуйте!
Струсь немного склонил голову.
– Благодарение Богу, я был тут не нужен, – сказал он, – а в другое место я должен идти, необходимость. Доктору все рады, лишь бы его не звать.
Этот Струсь был тогда самым вызываемым лекарем в Кракове, хоть там их было предостаточно, потому что и поляков, что в Италии учились, и итальянцев, и разных чужеземцев много можно было насчитать.
Струсь превосходил других знаниями и быстрыми глазами в распозновании людских болезней и темпераментов. Его всюду уважали за большие познания, но и за не менее прекрасный характер. Как это случается со многими лекарями, ежедневно привыкшими к виду смерти и людские дела привыкшими видеть бренными, Струсь сохранил свободу ума и речи среди самых достойных особ и не перед кем не сгибался. Ему так же легко было сказать правду королю, как батраку, а та всегда была здоровая и ядрённая. Он также никого не боялся, когда все его требовали.
Струсь, должно быть, входя, уловил последние слова разговора, крутившегося около принцессы Елизаветы, потому что, когда они затихли, он сказал:
– Я не хотел бы прерывать Encomium (панегирик) нашей будущей пани, но мне было бы приятно узнать, что у бедняги будет достаточно сил и здоровья, чтобы была в состоянии справиться здесь с любовью одних и ненавистью других.
– Что до её здоровья, – понижая голос, сказал епископ с некоторой задержкой, – кружат разные слухи, дай Боже, лживые и злобные… Она, должно быть, слабая и хрупкая.
У слушающего Струся сильно нахмурились разросшиеся под высоким лбом брови.
– Я тоже кое-то слышал, – сказал он, – и поэтому спрашиваю. Говорят, что у её матушки плохое здоровье, да и от отца некоторые недуги могли перейти к ребёнку… хотя не факт, что она их наследовала. Это наследство встречается часто, но не всегда, одних детей минует, других отягащает.
Задумчивый Мациевский молчал.
– Откуда я это знаю, – сказал он, – извольте меня не расспрашивать. Однако от тех, кто часто в последние дни видел старую королеву, я слышал, что её очень утешает, только, может, преждевренно, то, что знает о какой-то скрытой болезни будущей королевы, которая не обещает ей долгой жизни.
Все какое-то время молчали, а пан Северин Бонер потихоньку шепнул епископу Тарле, рядом с которым сидел:
– Может, заранее обещают болезнь, чтобы ей не удивлялись, когда потом итальянским мастерством дадут её в кубке или запахе.
Струсь, дослушав, грустно усмехнулся.
– Вы называете это итальянским мастерством, – сказал он, – хотя оно и во Франции, а также и в других странах в это злое время было доведено до совершенства. На самом деле это мерзко и грустно, когда человек свой разум и знания использует на то, чтобы тайно и безнаказанно плести интриги. Мы дошли до того, что и Локуста лучше отравить не умела, чем наши отравительницы.
Стыдно признаться, что среди докторов есть такие, которые работают над тем, чтобы делать как можно более тонкие яды, которые потом продают не на вес золота, а за огромные суммы.
– Да, но есть противоядия, – отпарировал через минуту епископ, – и говорят о таких камнях, нося которые, никогда не отравишься.
Струсь усмехнулся.
– Эта вера пришла к нам из старины, так же, как об аметисте говорят, что он не даёт опьянеть, но это должен быть волшебный камень, чтобы один взгляд на него и ношение его поглощенный яд уничтожило. Сказки это.
– А правда то, – спросил Бонер, – что и запахом можно убить?
– Быстрее, чем вылечить, взглянув на камень, – сказал Струсь, – но это грустная тема для разговора… оставим её лучше.
– С весёлым трудно, – сказал епископ Самуэль.
После этих слов собеседники разделились и каждый из них вступил с кем-то в личную, тихую беседу. Все же они более или менее касались одного предмета – молодого короля и будущей королевы, на которых возлагали большие надежды… так как Боны и её правления, всё более раширяющегося, все боялись, утешаясь только тем, что оно с жизнью старого пана должно было прекратиться.
Это слово было на устах всех и, услышав его, епископ Самуэль сказал, что и это не факт, если Бона, которая для приобретения сердца сына работала с его детства, не сможет его сохранить, имея тысячи способов сделать это.
– Какие они, – снова возвысив голос, сказал Мациевский, – мы знаем, потому что их видели. Молодому пану много нужно, потому что привык к изящной и роскошной жизни, любит всё красивое, а что красиво, должно быть респектабельным.
Старый король не хочет обеспечивать его безделушками и хотел бы держать суровей, чему Бона не мешает, в то же время имея возможность тайно его снабжать из казны, что одна любовь и поддерживает. Есть в Хетинском замке то, из чего кормить всякую роскошь. Хуже другое, – кончил епископ, опустив глаза, – потому что рассчитанное на пылкий темперамент молодого короля. У Боны всегда предостаточно красивых девушек, итальянок и полек, а она сквозь пальцы смотрит на романы сына.
– Я об этом тоже могу кое-что поведать, – шепнул Струсь, – поскольку вчера молодой король через своего придворного велел позвать меня, чтобы я, не открывая, что это вышло из его уговора, прописал что-нибудь итальянке Дземме, потому что она больна.
– Известно, – вставил Бонер, – что очень красивая итальянка, потому что это жемчужина на дворе королевы, давно приглянулась юному государю… а злые люди говорят, что Бона сама этого хотела и устроила.
– Вы были у неё в замке? – спросил с любопытством Андрей из Горки.
Струсь покачал головой.
– А как бы я больной и королеве мог отказать? – сказал он. – Придворный Мерло, что провожал меня, так старался выбрать время и дорогу, чтобы нас не заметили. Не знаю, видел ли меня кто, блуждающего в пустых коридорах, пока Мерло, шедший впереди, не дал мне знак, что могу войти. Когда я вступил на порог, – говорил дальше Струсь, – в ту же минуту у второй двери упала куртина, и я не ошибаюсь, потому что узнал молодого уходящего пана. В комнате, такой аккуратной и нарядной, какой никогда наши принцессы не имели, так как около тех скромно и бедно, я нашёл ту красавицу, у ног которой ещё лежала брошенная недавно лютня и её струны тихо звучали недоигранной песней. Увидев меня, она сильно покраснела и встала неподвижно, как статуя, так что у меня время присмотреться, медленно приближаясь. Глаза она долго не смела на меня поднять.
– Она, правда, очень красива! – сказал Бонер.
– Даже в Италии таких не много, – подтвердил Струсь, – хотя женщины там в молодости славятся красотой, только она непродолжительна; когда наши женщины, если красивы, то и в пятьдесят могут стоять среди девушек, а итальянка, едва дожив до тридцати, уже старая. Я обратился к испуганной, спрашивая, больна ли она была. Только тогда она подняла на меня красивые глаза и тихо сказала:
– Все нормально.
Я взял её за руку и проверил пульс, который был довольно учащённый и нерегулярный. В крови чувствовалось беспокойство души. На мой вопрос она едва хотела отвечать, всё время поглядывая на дверь, портьера которой дрожала, точно за ней кто-то спрятался. Больной я её не нашел, но здоровой назвать не годилось, потому что от такого беспокойства во всём человеческом теле могут возникнуть серьёзные неполадки и привести даже к смерти.
Тут мои аптекарские лекарства не могли быть эффективны. Поэтому я посоветовал ей сохранять спокойствие и быть в хорошем настроении, искать развления, отказаться от музыки. Сонные и успокоительные травы я также обещал ей прислать.
– Причину этой болезни легко открыть, – прервал пан Бонер. – Во дворе все уже знают, потому что и старая королева удержать языка никогда не может, что молодой король жениться. Поэтому любовница очень беспокоится; а она была и есть любовницей Августа, в этом на дворе ни у кого нет сомнений. Старая королева осыпает её милостями, а через неё держит сына при себе и надеется сохранить его. – Несомненно, что таков был план, – прервал Мациевский, – его легко подсмотреть и отгадать, но не знаю, столь же легко будет привести его в исполнение.
Все замолчали.
– Для этого старая королева заранее обдумала способы, – сказал Горка, – времени у неё достаточно. Ходят слухи, что будущая жена везёт с собой какую-то болезнь, не для чего другого, только, чтобы всех оттолкнула. Это будет хороший повод, чтобы отдалить Августа, которого Дземма утешать не замедлит.
Епископ Самуэль вздохнул, но затем маршалек двора отворил дверь столовой и объявил, что ужин подан, и, как бы для него, вошёл, смеясь, брат епископа, – и все вместе, кроме Струся, который поблагодарил за вечерний хлеб, двинулись в соседнюю залу.
* * *Дом краковского епископа, хотя в нём жили Олесницкий и кардинал Ягеллончик, такой пышности и великолепия, как во времена Гамрата, не знал.
Это старая и доказанная истина, что тот, кто привык с колыбели к хорошему быту, к достатку, менее склонен хвалиться ими.
О Гамрате говорили, что он в лаптях пришел из Подгорья, так же как о Цёлке, который был сыном корчмаря или сапожника, а оба они без больших богатств обойтись не могли.
Надворная стража, многочисленные каморники, служба, вплоть до самого маленького слуги, ежели не каждый день, то на торжества, сопровождали Гамрата в таких костюмах, доспехах и украшениях, что своими цветами и снаряжением затмевали отряды самых могущественных домов.
Правда, что вместе гнезненского и краковского архиепископств, двух княжеских бенефиций могло Гамрату хватить на княжескую роскошь и он мог соперничать хотя бы с Тарновским, Горками, Зебридовским и самыми богатыми магнатами.
Когда у других щедрость сочеталась с изысканным вкусом, Гамрат особенно любил то, что восхищало глаза общественности и притягивало их блеском.
Поэтому цвета были с золотым обрамлением, попоны на коней, золотом и бархатом светились кареты, а количество отрядов соответствовало должности. Двор его больше походил на свиту светского пана, чем на дружину священника, – но и он сам, несмотря на высшую должность в церковной иерархии, менее подходил серьёзностью к капелланской.
Прежде всего он хотел быть паном, поэтому бывал и по-пански благодетельным, потому что, когда отправлялся в путешествие по своим землям, шли за ним повозки, гружённые одеждой и хлебом для бедных. Сыпал так же щедро, как ему было легко собирать.
Не поскупилась природа для счастливого ребёнка при-приданым, дав ему красивое лицо, хоть оно уже в эти его годы было значительно разлито и погрубели черты, притом имел великолепную фигуру, рост и живот панские. В глазах сверкали разум и хитрость, также был быстрого ума и легко отгадывал даже то, чему никогда не учился.
Глубоких познаний Мациеевских и Томицких у него никогда не было, но было живое и гибкое остроумие, слово лёгкое и вид речи буйный и цветущий, который зменял мудрость. С людьми, которых хотел приобрести, был таким милым и казался таким искренним, хоть им не был, что легко покарял сердца.
В средствах он вовсе не разбирался и жизнь его явно во многом можно было упрекнуть, но он об этом не заботился. Не умея усмирить свои страсти, если бы даже притворялся добродетельным, никого бы не обманул.
Когда с одной стороны его поступки оправдать было невозможно, однако в нём был какой-то стыд, что за них пытался платить громкими делами.
Он сыпал полной горстью для бедных, особенно там, где не только левая рука тянулась, но тысячи глаз с правой и левой стороны могли это видеть. Молодежи охотно помогал в учёбе, денег на это не жалея, для приятелей был щедрым, а чем громче мог что-то сделать, тем охотней делал.
Но так же, как он хвалился хорошим, так плохого не скрывал; его любовница из Собоцких Дзерговская и её семья почти проживали в епископском дворце. Изображение красивой дамы висело в покое на стене, а когда архиепископ отправлялся в дорогу, шла за ним карета той, которую публично звали женой архиепископа.
Она тоже не стеснялась быть любовницей Гамрата, а придавать ей смелости должно было то, что у королевы Боны в покоях также все видели её изображение итальянской кисти и старая пани говорила о любви архиепископа к ней, как о вещи достойной и узаконенной.
Духовенство это возмущало, потому что со времени Павла из Пжеманкова подобного скандала в краковской столице не видели. Легкомысленную жизнь вёл кардинал Ягеллончик, но его всё-таки заслоняли, чтобы это не бросалось в глаза. Гамрат ею чуть ли не хвалился, а называли это с ударением «итальянским обычаем».
Обычно, когда старая королева жила в Краковском замке, Гамрат постоянно был ей нужен. Обойтись без него не могла, должен был служить и для совета, и для исполнения, поэтому значительнейшую часть дня он проводил в Вавеле и возвращался поздно.
Но редкий день обходился потом без ночного застолья, потому что епископ и есть хорошо любил, и пить ещё лучше, а когда ел или пил, никогда один не садился за стол, окружая себя весёлым обществом, людьми, что бы могли его развлечь и добавить хорошего настроения. На этих славных гамратовых ужинах, которые в летние дни не раз продолжались до утра, брали на зубы всех, кто не принадлежал к лагерю королевы, а грубое слово и едкая шутка не были новостью.
Этим пиршествам хватало всего, что могло разбудить и поднять настроение: и шутов, и музыкантов, и льстецов-фаворитов; не хватало только умеренности и скромности.
Женщинам с пани Дзерговской вход также не был запрещён, хоть духовные лица у стола превосходили числом.
Но кто из них бывал у Мациевского, тот у Гамрата не оставался, и наоборот. Когда вынужденный профессор академии, какой-нибудь прелат занял место за столом, выходил перед окончанием пиршества, потому что, чем дольше оно длилось, тем больше был разгул.
А такова несчастная мощь власти, значения и всякой силы, что, хотя сам Гамрат в общественном законе был ничтожеством, ему всё больше кланялись могущественные люди, гостили достойные, все меньше там ожидаемые.
И люди самых громких имен, как Опалинские, как Кмита, не избегали архиепископа, потому что те, кто были на стороне королевы, должны были держаться с Гамратом. Особенно в последнее время, когда король всё очевидней начал стареть, а жена брала над ним всё больший перевес, Гамрат также рос и укреплялся. Ни до правительства, ни до уха короля нельзя было достучаться без него. Было недостаточно подарка, хоть королева себе за всё велела платить, поклон был необходим. А кто дольше им кланяться не хотел, тот потом должен был кланяться ниже.
В этот вечер в доме к возвращению епископа готовили ужин, и из открытых окон кухни прямо на двор долетал аромат заморских пряностей, без которых никакая панская кухня не обходилась. Были они по вкусу или нет, из-за одной своей цены их нужно было использовать, чтобы показать, что их хватит на то, чтобы имбирем, шафраном, мускатом, корицей были приправлены блюда.
Многочисленный двор довольно хаотично крутился во дворе с песнями на устах, побренькивая на цитрах, устраивая такие гонки, точно это был не двор ксендза и жилище духовного. Глаза также встречали больше вооружённой черни, чем капелланского облачения, которое многие сбрасывали или так перекраивали, что могло показаться светским.
По правде говоря, синоды строго предписывали и тонзуру, и сутану, и беспомощность, и отказ от зеркал, но сам пастырь наряжался и никого, кто был с ним в дружеских отношениях, за это не порицал.
Карета Гамрата ещё не прикатила из замка, когда Собоцкий, которого в то время сестра силой протежировала на должность воеводы, вместе с нею подъехал на алой карете с оловянными светильниками к главным дверям.
Вместе с нею (Дзерговской) прибыла другая её подруга и родственница, также Собоцкая. Двоюродный её брат, который их сопровождал, стоял на ступеньке кареты, держась за балясины, на которых покоилось покрытие… Мужчина был такой же красивый, как сестра, по милости которой он был под охраной Гамрата, но уже от возраста и жизни растолстевший, отяжелевший и на слишком румяном лице с отметинами от горячительных напитков. Одевался, однако, молодо, заботился о своей красоте и хотел ею еще хвастаться.
Выходящая из кареты Дзерговская, любовница Гамрата, вся в шелках, цепочках, драгоценностях, кружевах и золотых орнаментых, была женщиной старше тридцати лет, с красивой талией, хорошей фигурой, сильная, румяная и белая.
Лицо кокетливо улыбающееся, с сапфировыми глазами, говорило равно как и малиновые губы, что женщина любила весёлую жизнь. Она смеялась, высаживаясь, когда Собоцкий её вместе с подбегающим маршалком двора почти на руках вынесли из кареты.
Тут же за ней шла другая Собоцкая, тоже красивая, но не могла сравниться с сестрой. Меньше её, пухлая, полная, она отличалась только белым лицом и нарядом, сделанным из кусочков материи. Маршалек архиепископа объявил ей на пороге, что архиепископ до сих пор из замка не возвращался. – А! – воскликнула, смеясь, Дзерговская. – Если бы Бона не была старой и королевой, я бы ревновала. Два часа или три на всех часах… уже дома давно должен отдыхать.
Маршалек пожал плечами.
– Опоздание, – сказал он тихо и доверчиво, – это ещё ничего не значит. Известно, что наш архипастырь на своей голове и плечах столько поднимает, что ему справиться трудно. Ничего не делается без него. Хуже то, что уже два дня ходит ксендз-архиепископ удручённый, с какой-то заботой, которую ничто развеять не может. Я ещё таким его никогда не видел.
Пани Дзерговская нахмурилась.
– Но что с ним случилось? – воскликнула она. – Разве нам не нужно ничего знать?
Разговаривая так, они вошли в большую ярко освещённую залу, в которой был накрыт великолепный стол. В другом рядом стояла позолоченная посуда и такие же миски, с богато обшитыми полотенцами, приготовленными для мытья рук гостям перед ужином. Служба в углу готова была начать работу по первому знаку.
– Вы ничего не знаете? – спросила Дзерговская.
Маршалек покрутил усы и надул губы.
– Он от меня ничего не скрывает, – сказал он, – но в этот раз я не мог узнать, что с ним. Это тем более странно, что вчера, ложась спать, он был в лучшем настроении, смеялся, шутил… Потом он лёг, а утром встал бледный, вспотевший, уставший, на себя непохожий, так что я хотел послать к пану Струсю или другому лекарю, но он крикнул, что в нём не нуждается. Всё то время, когда одевался, он задумчиво вздыхал, что не входило в его привычку. Сегодня днём эта облачность ещё не прошла.
Дзерговская и Собоцкий поглядели друг на друга, спрашивая. Маршалек стоял, прислушиваясь, не услышит ли грохот кареты архиепископа, которую ожидал. Но тихо было вокруг, только со двора долетали смех, песни и говор.
В одидании прошло четверть часа, когда наконец вдали застучало, и маршалек вместе с Собоцким поспешил навстречу своему пану, а обе женщины одни остались в зале, только немного приближаясь к порогу. Факелы мелькнули у окон, архиепископ прибыл.
Через мгновение его красивая фигура появилась в дверях, но такая пасмурная, с выражением какой-то тревоги и сурового беспокойства на лице, что пани Дзерговская испугалась.
– Что с вами? – спросила она.
– Что со мной! – произнёс епископ, принуждая себя к улыбке. – А кто вам говорит, что со мной что-то случилось?
– Это по лицу видно.
– Лицо лжёт подчас, как и уста, – воскликнул Гамрат. – Уставший человек кажется озабоченным, изнурённый – грустным…
В те минуты, когда архиепископ входил в столовую залу через одни двери, через другие уже тиснулось туда из боковых комнат ожидающее его каждый день обычное общество. Духовные лица, наряженные так, точно не были ими, светские, одетые по-итальянские, по-гусарски, по-венгерски, по-немецки, два карла, шут, всё это вкатилось вместе.
Маршалек, который уже, должно быть, получил приказ, тут же начал приносить миски на стол, а Гамрат уже шёл к кувшинам, из которых слуги начали поливать руки водой. Затем и дамам, и другим гостям подставляли миски и подавали полотенце.
Весёлый говор разошёлся по освещенной и блестящей от серебра и венецианского стекла зале. Однако все, поглядывая на епископа, одинаково видели, что он был не таким, как обычно. Это плохое настроение обычно приписывали тому, что и старая королева, и Гамрат были побиты в деле брака молодого короля.
Женили его, помимо их воли, – обещались бури и тяжёлые битвы.
Когда Гамрат занял своё место, рядом с которым по обе стороны поместились Дзерговская и Собоцкая, а другие также заняли стулья согласно должности, запах полевки разошелся по комнате и в течение какого-то времени был слышен только лязг ложек и звон мисок, соприкасаемых с ними.
Архиепископ, едва коснувшись еды, бросил её, приказал налить себе вина, выпил, не мешкая, и сел, оперевшись на руку.
Привыкшие всегда видеть его на пирах возбужденным, призывающим к веселью, радостным, удивленные, толкали друг друга локтями.
– Что с ним?
На этот вопрос никто не мог ответить, потому что таким его никогда не видели, таким он никогда не бывал.
Дзерговская начала его тихо расспрашивать. Он глядел на неё сверху, хотел мягко улыбнуться, но только сделал гримасу и сказал:
– Плохо себя чувствую. Сам не знаю, что со мной. К меланхолии я не имел никогда склонности, ипохондриком меня никто не видел, скорее холериком иногда… Это пройдёт и постепенно сотрётся. Будьте в хорошем настроении, чтобы я ему радовался, когда собственного не имею.
– Вы так говорите, – ответила Дзерговская нежно, – хорошо это для других, не для меня, которая имеет счастье хорошо знать вас. Какая-то хандра вас донимает и, должно быть, невероятно тяжелая, когда стала так заметна.
Гамрат вздохнул, ничего не отвечая.
Поэтому и Дзерговская, Собоцкий и маршалек, и все те, которые были очень заинтересованы в том, чтобы видеть пана веселым, начали шептаться, крутиться, выдумывая разные способы.
Тогда вышел итальянский лютнист и, побренькивая на струнах, занял место под окном, начав петь старую песню, которую любил архиепископ, потому что напоминала ему молодые годы, проведенные в Риме при Целке. Гамрат поглядел на лютниста, его лицо облила какая-то тоска… и слушал песню.
Его лицо не прояснилось.
Лютнист окончил пение, кубок ему подал сам Гамрат, благодаря, а за столом царила тишина. Те, кто обычно тут главенствовали, сегодня чувствовали себя бессильными.
Затем выступил из угла шут, которого звали Покжиком, что означает то же самое, что по-итальянски Мандрагора, поскольку в неказистой его фигуре усматривали какое-то сходство с этим дивным растением.
Кривой, на кривых ногах, отвратительно горбатый, с большой и бесформенной, как горшок, головой, Покжик славился, если не едким остроумием, то большим цинизмом, который также данное ему имя оправдывал.
Приблизившись к столу, Покжик начал дурачиться… у нескольких человек пробудил смех, но Гамрат, казалось, его не слышит и не понимает. Напрасно он усердствовал придумать ещё более смелые номера, все остались без результата.
– Что это с тобой, отец наш добрый? – спросил он, влезая к нему почти под локоть.
– Ты хотел бы, чтобы я, как ты, был безумным? – спросил Гамрат.
– Толика безумства и умным мужам не повредит, – ответил Покжик, – особенно во время застолья. Ну, смотрите, не только вы грустный, но все потемнели… как будто зашло солнце и сумрак упал на землю.
Архиепископ сделал движение рукой, а потом ею потер уставшее чело и отвернулся от шута.
– Хм! – сказал Покжик на ухо Дзерговской. – Вы скорее, чем я, поможете от меланхолии, я умываю руки…
И он отошёл от стола.
Тот и этот из гостей, особенно те, что больше верили в своё остроумие, начали громко высказывать то и это, думая, что хмурого и задумчивого расшевелят. Не помогло ничего.
Этот ужин, что должен был всех развеселить, прошёл грустно, а под конец его лица нахмурились, и когда снова дошло так до мытья рук, царило тревожное молчание.
Даже для Дзерговской Гамрат не имел тех сладких слов, которыми привык её кормить.
Поэтому сразу после более короткого, чем обычно, пиршества, гости начали собираться к выходу. Тот и этот прощался и исчезал, недовольная Дзерговская с сестрой попрощалась с Гамратом, который их не задерживал, и села в карету.
Только Собоцкий остался, отправив их, с сильным решением расспросить архиепископа и выйти из этой тревожной неопределенности, в которую его ввела необычная пасмурность.
Когда женщины уехали, гости разошлись, а Гамрат остался один с домашними и Собоцким, он кивнул ему и из пустых комнат повёл за собой в тихую, маленькую каморку, которая примыкала к спальне.
Это было его излюбленное гнездо, в которое только самые близкие имели доступ; всё было выстелено коврами, вокруг окружено мягкой широкой лавкой, очень тихое, комфортное и чужим недоступное.
Архиепископ занял тут место на обширном сидении, которое было так устроено, что он мог на нём лечь, опереться и поместиться, как хотел. Только сибарит мог выдумать подобное.