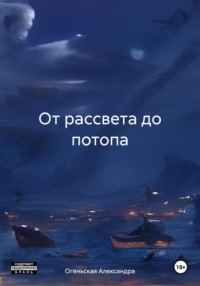Полная версия
Старовский раскоп
– Андрей, выйди, – отец дышал тяжело, как после заплыва через запруду туда и обратно.
– Нет, Андрей, стой. Мы с тобой уезжаем. Не будем больше с этим выродком жить. Собирай свои вещи, – мать говорила холодно, явно наслаждаясь пробежавшей по лицу мужа гримасой злости и досады.
– Андрей останется со мной. Даже в суде решат в мою пользу. Женщина, которая в каждую постель прыгает, не может быть хорошей матерью.
– В каждую постель, значит, прыгаю? А то, что у тебя продавщицы все сплошь девицы без стыда и совести – это нормально?!
– Я с ними не сплю. А вот ты, дешевка… – отец был очень бледен, говорил медленно и тихо.
Андрей уткнулся взглядом в пол. На родителей смотреть ему было страшно. Когда они так злятся, кажется, что нормальной жизни уже не будет никогда. Но ведь повторяется – всё хорошо, хорошо, кино, парк, аттракционы, папа ходит довольный и учит всяким фокусам, а потом вдруг мама не приходит домой ночевать и снова – крики, битье посуды, обещания развода.
– …Такую похотливую кошку, как ты, нужно еще поискать. Андрей останется со мной. Ты можешь убираться на все четыре стороны. Если хочешь, можем официально оформить развод. Можешь даже оставить за собой квартиру в городе. Но сына не получишь.
Мама скривила губы в злой усмешке, темные волосы откинула на плечи. Натянут рассмеялась.
– Если тебе интересно, это вообще не твой сын! Это от Женьки, шофера, помнишь такого? Охота тебе ублюдка воспитывать?! Я ухожу. Андрея забираю, а квартиру можешь себе хоть в задницу засунуть, мне плевать!
Сердце глухо стукнуло и упало куда-то вниз. Тяжесть неимоверная. Лицо у папы стало каменное.
– Повтори, что ты сказала, Катя.
– Андрей не от тебя, а от Женьки. Стала бы я рожать ребенка от такого урода, как ты? Так что он только мой, ты на него никаких прав не имеешь. А квартиру в задницу себе запихни, папик, – прошипела мать.
Дальше что-то снова шумело, кричали и хлопали оконными рамами, только Андрей не слушал. Он убежал к себе в комнату, рухнул на кровать, спрятался в ворох подушек и так замер. Ни пошевелиться, ни даже всхлипнуть сил не было. Лежал так долго без единой мысли. Потом пришла двоюродная сестренка Анька, принесла книжку. Ничего не спросила, тихо прикрыла за собой дверь. Еще позже зашел отец и ровно сообщил, что мама больше здесь жить не будет, что она уехала, но всё будет хорошо. И что то, что мама сказала – это неправда. И сидел рядом. А Андрей так и лежал, уткнувшись в подушку и вдыхая ее душный запах. День выдался жаркий....
А потом отец вдруг как зарычит да как долбанет – крепким кулаком по деревянному столу! Бум! Бууууууум!
Андрей аж подскочил на койке, та противно спружинила. Сообразил – сон. На остальное соображения уже не доставало.
– А?! Черт! Apage, bestia!
***
…Вонючий мышиный помет по углам. Огонек. Шуршание в подполе, но не мышь. Тянет снизу гнилью. Холодно. Грязные лапы, пыльные. Голодная. Веревка жжется и колется. Человек. Всё из-за человека. За стеной шумят деревья. Кричит филин. Охота зовет.
Серые тени бегут по полу как мыши. Серые-серые и еще серые-желтые. И трещит огонек. Снаружи идет снег. Опять. Он холодный и липнет к лапам. Человек Еж лапы связал. Веревка колется. Разгрызть. Человек смотрит и что-то говорит, чего я не понимаю. Ненавижу. Рычу. Он вкусный. Но далеко. И опасный. Боюсь. Снова рычу.
Веревка на вкус горячая. На запах – мертвая уже давно. Болят губы. Человек злится, хоть и не рычит, но скалится и пинает под ребра. Показываю ему, что подчиняюсь, что он главный. Он еще отвернется. Самец…
Дверь. Её открыть, пока лапы удобные, а потом уже в нормальном виде убежать. И больше сюда не возвращаться.
Снова рычу. Еж сидит и на меня таращится. Он по-прежнему пахнет больным и прелым теплом, и он устал. Нужно только терпеливо ждать, тогда самец уйдет спать. Снаружи уже почти светло, время ночной охоты на исходе. Смотрю на него, жду. Потом притворяюсь, что хочу спать. При враге опасно, но закрываю глаза. "Сплю".
Человек расслабляется, начинает дышать ровнее и глубже, потом скрипит кровать. Для верности жду. Торопливо грызу веревку. Слишком долго. Рву ее и терзаю. Она глубоко врезается в кожу, больно. Внезапно шипит и распускается на кольца. Падает. Бегу к двери, пока человек не проснулся. Я хочу есть! Я хочу на свободу!
И тут проклятые лапы сводит судорогой. Она роняют меня на пол, мне целый миг больно, как если бы шкуру сдирали. А потом лапы снова нормальные, только потолок стал выше и до засова едва дотянешься. Порвала б в клочья! Кого, не знаю. Но скорей, скорей! И бьюсь о дверь, может, поддастся. На улице уже светло, прохрустел снегом сохатый. Скорее!
Еж проснулся. Закричал. Зарычала. Хотела припугнуть. Зарычала в ответ. Оскалилась. Но…
Apage, bestia!
И снова судорога.
Колотит.
Содрали шкуру! Опять голая, беспомощная, с глупыми неудобными… Как же…
Apage, bestia!
Сводит лапы! Сводит, как если бы…
Apage, bestia!
Рычу! Кричу! Содрали! Ненавижу! Как же бо…
Apage, bestia!
А-ах…
Apage, bestia!
Ненавистный са…
Apage, bestia!
А-ах.
Уже не кричу и не рычу. Только лежу и скулю. Я больше не могу. Смотрю на ненавистного человека. Жду, когда уже убьет. А он не торопится. Я прячу неудобную морду в неправильные лапы. Шаги. Вздрагиваю, когда он наклоняется и теребит шкуру. Что-то рыкает, я не выдерживаю. Вцепляюсь ему в руку до крови, до вкусного горячего на языке, очень хочу есть… опять до судороги…
Apage, bestia!
Вою. Задыхаюсь. Захлебываюсь воздухом и слезами. Как же больно. Аж темнеет вокруг, холодно, мамочка, холодно… И есть хочется до смерти… Он шипит, несильно бьет меня по морде, крепко перетягивает мне лапы за спиной проклятой веревкой и тащит на койку. Опять не убивает. Я жду… Мне страшно.
***
Успел в последний момент. Трансформации у нее просто молниеносные. На полушаге – рраз! – и она уже кошка. А у Андрея со сна простая формула никак не ложилась на язык, сосредоточиться и собрать силы не удавалось. Через мгновение она снова вдруг женщина, стонет от боли, с тем же стоном – черная кошка. И формула, и женщина, и кошка, и формула – замкнутый круг. Начал выдыхаться уже на третьем выверте. А она воет – и обратно. Плачет, бьется в судорогах, снова подвывает – и обратно! И всё вместе больше напоминало пытку, но сделать Андрей всё равно ничего не мог, он начинал понимать инквизиторов, которые сутки напролет боролись с "гримасами дьявола" на лицах своих "клиентов". Руки тряслись. Ощущал себя палачом, впервые вышедшим на эшафот убивать.
Она дышала рвано, вся тряслась, клекот из ее то человечьего, то звериного горла казался совсем умирающим, агонизирующим. У Андрея в голове мутилось, темнело в глазах, пол под ногами раскачивался, как дно утлой лодчонки. Тут был только один вопрос – кто выдохнется первым?
Оборотень сдалась на десятом выверте. В какой-то момент бросил формулу, а она ушла "в молоко".
На полу лежала девчонка – молоденькая, худая, измученная до предела, отчаянно всхлипывающая. А потом затихла и вроде даже не дышит. И жаль ее было до того, что, хоть и опасно – подошел и потрогал, живая хоть? В полуобмороке, кажется. И, конечно, укусила. До крови… что-то это значило….
Кровь ненадолго привела ее в подобие сознания. Голодная она, вот что. Организм требует пищи. Единственный способ ее получения – охота.
А Андрей тоже хотел есть. И еще – упасть и лежать, не шевелиться. Но он связал оборотнице руки и притащил ту на кровать. На полу ей холодно. Женщина всё-таки. Глаза у нее уже не кошачьи, опять женские. Напуганные смертельно. Маленькая голодная кошка перед диким псом.
– Слушай… ты меня извини, ладно? А впрочем…
Подумал и прикрыл оборотня какой-то старой телогрейкой. Когда подходил к кровати – в испуге съежилась, вжалась в кровать, сделавшись еще меньше.
– Знаешь что? Будем дальше разговаривать. Обо всем. Пока не договоримся до чего-нибудь. Хочешь, о себе расскажу? Или вообще? Или давай о тебе?
Вздохнул.
– Глупо, да. Знаю. Но вдруг получится? Вдруг у тебя мозги на место встанут?
Подкинул поленце в печку и то придавило, было, высокие языки пламени, но потом утонуло в них и тоже засветилось изнутри – розово и тепло. Подумал и затушил свечу. Нужно будет всё же насмелиться и хотя бы один ставень снять. Не сидеть же в потемках. А сидеть – неделю. Или больше. Поскольку после дестка формул на пустой желудок и больную голову восстанавливать силы дело хлопотное и длительное.
– А мы с тобой почти коллеги, я только сейчас подумал. Оба со всяким древностями возимся. Только ты археолог, а я по антикварной части. У меня вот сейчас амулеты. Кажется, работы Вигилянция, конец шестнадцатого – начало семнадцатого. Есть в коллекции скарабей. Настоящий колдовской скарабей какой-то средневековой ведьмы. Есть десяток ритуальных кинжалов. Есть женские украшения с несложным, но полезным заклятьем привлекательности. Но вообще у меня коллекция небольшая, я мало что себе оставляю. Ничего такого, из-за чего можно было бы убить. Я, по сути, перекупщик. И иногда мародер. Ты, оборотень, тоже, кстати. Мы тревожим прах умерших и присваиваем их имущество. Наверно, то колье из бирюзы и жемчуга носила какая-нибудь жеманная придворная модница, а теперь оно лежит у меня под стеклом. Оно стоит весьма приличных денег и вызывает зависть у других коллекционеров. А вот отец специализируется на вещицах с боевой магией. А ты на чем специализируешься?
Она глядела с напряжением и недоверием. Молчала. Не шевелилась.
– Наверно, на каких-нибудь бытовых предметах какой-нибудь народности? Наверно, лазишь по могилам тысячелетней давности и моешь косточки? Интересно, нравится тебе работа? А, оборотень?… А у вас тут зимы холодные. Я уже и отвык. И еще у вас жизнь медленная. Никуда никто не спешит. Странно, правда? У нас вот все торопятся, каждая минута дорога, у меня обычно в день до десятка клиентов, которым нужно всё объяснить, всё показать, которые хотят урвать кусочек пожирнее и подешевле… А у вас… Я тут и работой-то толком не занимался. Я за всё время здесь от силы десяток безделушек выудил. Я, кстати, в ваш музей один раз ходил. Хорошая экспозиция. Понравилась ваша бронза. А вот идолы в углу в третьем, кажется, зале, не понравились. Ты в курсе, что им человеческие жертвы приносили? Я не знаю, кто и когда, но видно. Намолелные очень и темные. И старые… Если с ними долго возиться, может беспричинно болеть голова. Или неприятности случаться. Не замечала?
До момента, когда в горле пересохло, а через щели в ставнях засочилась зимняя белизна, Андрей успел рассказать даже про домашнюю любимицу Адетту, которая умерла от старости четыре года назад, и про приятеля Валерку, трижды пресечь попытки оборотня перетечь в звериную ипостась и понять, что ничем не помогает эта веревка с заклятьем, потому что уже сил не осталось подпитывать чертову формулу удержания. После сил начало не доставать даже на то, чтобы продолжать трёп. Или казалось, или на самом деле – глаза у нее опять желтые и зубки заострились…
Болели покусанные руки и вертелась насчет этих укусов какая-то настойчивая мысль…
И очень хотелось есть. Отдал оборотню косточки тетерева. Ей, конечно, на один зуб. Смолотила с пугающим проворством и с надеждой уставилась на облагодетельствовавшего её человека. Человек же подумал, что, в общем, те кости можно было тоже еще поглодать.
– Слушай, если бы ты соображала, кто ты, то ты бы уже могла уйти на охоту. И принести пожрать. Думаешь, я не хочу есть? Ну, чего уставилась?! Проклятье!
А, чего ей! Глазищи эти…
***
И свеча, мать её, закончилась лужей парафина. И вторая тоже.
Это, стало быть, три часа.
Парафин по столешнице в трещинах разлился паутиной, оборотень на койке возится, шуршит, временами стонет, а то вдруг опять за старое берется. И – apage, bestia! Раза три уже.
Еще одна свеча. Осталось их всего ничего. Перепробовал уже все темы, которые вроде бы до потери сознания привлекают женский пол – от таинственного Миши до последних европейских мод, но, как видно, ничего она из человеческой своей жизни не помнит уже и не вспомнит больше. Гуманнее всего было бы отвести ее поглубже в лес и там отпустить. Не сможет быть человеком, так хоть пусть пантерой.
В четвертый раз "apage, bestia". Она, когда плачет, совсем девочка. Когда успокаивается, видно становится, что зверь. Может, правда, отпустить, чем мучить? С другой стороны, слишком близко от города. Постреляют. Или сама кого-нибудь задерет, что вероятней…
Еще свеча – и примерно полтора часа. Это, значит, вечер. Ближе к ночи.
Отлучился по нужде. На улице слегка потеплело. Звезды в черном, местами белой гуашью подмазанном небе расползлись широкой дорогой, а само небо выдвинулось высоко-высоко, куда выше городского. Елочка у домишки нахохлила лапки в снежном завале, уже не полная, с краю обтаявшая луна бликовала на задорном хохолке. Пару лапок пощипал на чай, набил карманы. Потом сходил, значит, куда надо, еще подышал свежайшим после пыли и дыма избушки воздухом, потом опять этот долбаный кашель – пошёл в дом. А на пороге опять пантера. Рычит, скалится. Значит, всё, веревка окончательно "разрядилась".
И даже силы и желание кошку мучить – закончились. Опять звенело в голове. Подымается температура. Хоть бы таблетку аспирина. Она бы спасла. Натурально…
– Что, есть меня будешь?
На удивление, раздраженно мотнула хвостом и убралась с дороги. Мрачно сверкнула глазищами и улеглась на свою койку… Там затихла. Тоже устала…
Даже позволила опять примотать себя веревкой к изголовью и послушно обернулась девушкой.
Четвертая свеча…
Очень хотелось только двух вещей – спать и есть. Третьи или четвертые сутки без еды? В плену не поел. В голову просто не пришло сперва поесть, а потом уже драться. Хотя как это можно было бы представить? А есть при трупах… Вдруг вспомнилось, как до чертиков вкусно там кормили.
Пятая свеча.
Подумал насчет новой попытки "прыжка". Чуть не взвыл от бессилия – на обуздание оборотня они, едва собранные силы, и ушли. И морозит.... Аpage, bestia! Спи…
Четвертая свеча. Кривая, под конец зашипевшая фитилем в уже сплошном парафиновом море на столешнице.
Спи, только не плачь. Вот чего ты ревешь? Ты-то чего?! Я тебя отпущу, не волнуйся. Вот наскребу силенок, тебя заброшу куда-нибудь подальше в лес, чтобы не было у тебя искушения сходить покушать в город или по деревням. Сам домой уйду. Лады? А ты не реви. Ничего ж не понимаешь, а ревешь. А у меня знаешь, как голова болит?!…
Шестая свечка.
Будешь единственной в Сибири пантерой. Ты только вдумайся… Может, с утра смогу… Ох, чёрт…
Седьмая …
Ни черта с утра не сумею. И с вечера тоже. И… четвертый или пятый день будет? С вечера, в смысле… Или с утра… Шшш.... Тихо… Тихо, киса… Не дерись…И не реви.... Шшш… Душно тут… Воняет парафином…
Невозможная духота.... И жрать охота… Тебе, киса, тоже хочется?… Ну шшш! Прекрати… Терпеть не могу женские слезы… Знаешь что, я уже больше не могу тут с тобой сидеть… Я… пойду…
Шипит свечка. Последняя… Пальцами ее – хлоп. И всё…
В город надо. Домой…
***
Алинку Ковалеву всегда и все любили. В школе обожали учителя, в танцевальном кружке тренеры, в университете преподаватели, на нынешней работе – начальство души не чает. А, казалось бы, чего в ней такого? Ну, на лицо приятная, но не красавица уж совершенно точно. Ну, умная. Так мало ли в наше время умных баб? Наверно, просто умеет нравиться. Опять же, некоторым словно бы от природы достается такое счастливое умение…
Не то, чтобы Наташа Свердлова завидовала… В конце концов, подруги с детства, и Аля никогда в помощи не отказывала… Но когда на экзамене Альке выставляют "отлично", а сдающей следом Наташе "хорошо", а то и "удовлетворительно" – а ведь вместе учили, по одному конспекту! – обидно до слёз. Или вот на работе нынешней – опять же вместе устраивались, Алю без разговоров взяли, а Наташе начала отказали, а потом только, на следующий день перезвонили с сакраментальным "мы подумали, вы нам подходите". А всё почему? Нравиться умеет. С первого взгляда.
Нет, ладно, если честно, то иногда завидовала. На работе, на учебе… Но никогда – в личной жизни. Вот там у Альки не клеится, начинаешь понимать, что есть в этом мире справедливость. Как-то не идут у Али ни одни отношения дальше стадии дружеских. Западают на неё многие, это да. Но как западают, так и отпадают через пару месяцев пустых ухаживаний. Становятся, значит, боевыми товарищами. Насчет этого всего Натка не без некоторой доли удовлетворения – старательно подавляемого, разумеется, чуть стыдного – думала, что хоть в чем-то перещеголяла отличницу Альку. Вот у Натки мужиков всегда было, как она всегда цинично-самодовольно в задушевных беседах с подружками говорила, "тыща штук без НДС". А Алька по жизни одинокая, как незнамо кто. Оттого и на работе по четыре часа сверхурочно сидит – дома-то не ждет никто.
И вот, наконец, вроде как свершилось. Вроде как приехал к ней в гости Колька, который к ней неровно дышит с самого первого курса. На вид не ахти какой, но мужик же…
В четверг это было, а в пятницу она не пришла на работу. Ну, думала, дорвалась до мужика, загуляла. Но потом она не отвечала на телефонные звонки весь вечер пятницы и в субботу. Но с ней такое и раньше бывало – забудет зарядить аккумулятор телефона, все выходные молчок. В воскресенье не открыла дверь, хоть Натка и трезвонила с полчаса. Тогда Ната всерьез заволновалась.
А в понедельник вечером позвонили из уголовного розыска. Сказали, Аля пропала. Задавали всякие разные вопросы. Вечером алинину фотографию показали по местному каналу в промежутке между новостями культуры и репортажем про задранного каким-то неизвестным зверем парня. Тоже ужастик, среди ночи на окраине города задрали. Собаки, наверно. Они зимой собираются в стаи и даже на прохожих нападают. Хотя в репортаже сказали, что не волк и не собака точно…
Но про Альку страшней. Вдруг какой-то маньяк? А Алька всё-таки подруга…
Глава 5. Воющие собаки
Собаки выли.
Выл ветер в щелях.
Скрипели нары. Ворочались на них во сне люди. Корявые, злые, смирные люди. Дух по казарме стоял тяжелый, сальный от сотни немытых тел и дрянных свечей. Дрянным людям дрянные свечи.
Ванька-Сухарник храпел, блажной. Во сне мычал жалостно шпанок Даниил. Свечи в дальнем конце казармы чадили и шипели. Дергался кто-то – звякали кандалы.
На наказание сегодня водили Федьку-Шныря, теперь он бредил каким-то прошлым своим, бормотал: " Я тттяяяя ща, я т-тя…" И так бесконечно.
Скрипнула дверь – событие фантастическое. На ночь запирают казарму и не отпирают, хоть все сто шесть человек злой смертью помри. Конвойный зашёл, пронёс свечу, раскидывая чад теней по потолку и углам. Против некоторых нар замирал, вглядывался в спящего или только притворяющегося спящим арестанта. Против одних застыл надолго, потом, не заботясь понизить голос, окликнул:
– Косой! А ну подымайся, Косой! Начальство за тобой!
Косой дернулся спросонок, едва не огрел конвойного кулаком, да опамятовался. Испуганно зыркнул, но не спросил ничего. Натянул только ушанку, а спал из-за холода все равно в верхнем. Зло ткнутый в плечо, засеменил к двери.
Цепные псы примолкли, за дверями было очень тихо.
На дворе ждали еще двое. Эти двое были черны, лиц не видно. Даже светильника никакого с собой не взяли, словно бы кошки – в темноте видят. Без лишних слов повели – через весь двор в сторону кухонь. Стукнуло сердце – в сторону ворот ведь ведут, к свободе. Потом в страхе затряслось: "Куда ведут-то, чертяки?!" Мимо частокола палей, мимо амбаров и сараев, к воротам через вал. Нутром чуял Косой, что не к добру. А спросить не мог, отнялся словно бы язык. Только кандалы нераскованные звенят и снег хрустит. Давно мечталось небо ночное, звездочки хоть одним глазком увидать – забылось и про звезды.
Остановились у реки. Река совсем застыла, отсвечивала белым. Один из сопровождающих обернулся к конвойному, кивнул:
– Ступай! Сами дальше.
По голосу узнал Косой майора, падлу. Нехристь, стольких уже в могилу свёл, не счесть. Совсем страшно стало и знобко.
– Господин майор, по что…
Тот только сплюнул:
– Молчи, отребье.
И до того жутко сделалось Косому, аж ноги подкашиваются.
Второй что-то шепнул, дернул куда-то, толкнул на землю. Косой и понять не успел. Вспыхнуло ярко, заверщало, завертелось! Кольнуло под ребра… В меркнущем свете успел Косой разглядеть одну крупную звезду и глаза нехристи-майора – действительно кошачьи, желтые.
13 января 1870 года. Каторга "Старое"
–-
Сухарник – выполняющий чужую работу.
шпанок – простой мужик, крестьянин, осужденный на небольшой срок за незначительное преступление.
шнырь – берущий на себя чужое преступление за вознаграждение
высокий деревянный столб.
Алина
Очнулась от скрипа.
Тоненький, навязчивый скрип резанул по напряженному слуху и выдернул из странного сомнамбулического отупения, в котором пребывала невесть сколько уже. Ощущение – как после затяжной болезни. Последние дни – как в тумане. Этот мужчина, Ёж, свечки… Что-то еще, совсем уж смутное. Теперь и не вспомнишь.
Но сразу поняла – что бы там ни было, уже закончилось. В голове прояснилось, в теле – легкость, хоть сейчас подымайся и беги стометровку. Темно, потому что или свечи кончились, или были потушены. Странно, но виделось всё прекрасно. Темные разводы на потолке, стол, слабо отсвечивающий белым, тоненькие лучики от щелей в ставнях. Алые угольки в печке. Сильно пахнет парафином и плесенью.
Странно, но привязана. Веревкой к изголовью койки. Избавиться, впрочем, от скользкого шнура проблем не составило. Подцепила зубами и разом ослабила узел. Определенно, не помнила, кто и когда прикрутил к кровати. Память вообще как-то кусками – что Ёж про призраки рассказывал, помнила, как он кашлял и ругался – тоже, а вот зачем привязана – нет.
Еще через некоторое время поняла, что в домике одна. Ёж ушёл.
И какое-то время понадобилось чтобы сообразить, что означает его исчезновение. Ушёл. Один. В маловменяемом состоянии. Он же…!
Подскочила и заметалась в поисках – чего бы накинуть. Не нашла, только тряпье какое-то, а под кроватью, вот смех – тапки домашние, розовые. Распахнула дверь – холодно, мороз сразу защипал щеки. Прояснилось. Звезды яркие, луна висит надщербленная. На луне взгляд зацепился, почему-то, идущая на убыль, она казалась важной. Впрочем, нерешенным оставался вопрос с тем, чего можно накинуть.
Снова поглядела на луну, наконец вспомнила и сделала самое естественное, что могла – упала на четвереньки, приземлившись на лапы. Легко и просто, как если бы с детства этим занималась. От ступенек вела ясная дорожка запаха – колючего, серо-коричневого и стойкого. Да даже и без него – глубокая борозда в снегу. Человек шел медленно, едва волочил ноги. Он не мог убрести далеко.
Нагнувшись к следу, вдыхая его яркое ощущение, побежала. Лес опять проснулся и с ним проснулся слабый голод, только больше он мыслей не путал и не сводил с ума. Взяла на заметку – недавно здесь были куропатки. Но подождут. В крайнем случае сунуться поглубже в лес.
А Ёж действительно не сумел убрести далеко, нашелся на полпути к площадке раскопа. И он был не один.
***
Есть такая легенда. Про то, как встретились оборотень и обычный человек. Встретились и полюбили друг друга. Потому что он был большой и сильный Кот, а она – хрупкий и красивый восточный цветок. Из местных, из татарларов. У нее были большие черные глаза и лицо, наверно, круглое, как их любимая татарларская луна. У него – широкие плечи и дерзкий взор. И еще он спас ее от разбойников, когда она возвращалась с ярмарки и отстала от подруг. И она, конечно, бросилась своему спасителю на грудь. И понятно, что было дальше. Про такую любовь можно было бы сочинять стихи и петь песни. Про то, как темными ночами она сбегала из женской половины, как тихо, ловко проскальзывала мимо спящей молочной матери, как подговорила самую свою верную подругу молчать и помочь проснувшейся любви. И еще про то, как у реки ждал ее возлюбленный, про то, какие слова они друг другу говорили.
Только никто не споет песен и не сочинит. Счастье было недолгим.
Однажды луна на небе стала совершенно такой же круглой, как личико красавицы. И на берегу вместо красавца-батыра ждало ее разъяренное чудовище с глазищами огненными.
Что было дальше, так толком и неизвестно. Одни сказители утверждали, что чудовище набросилось на красавицу и, забыв о прежней любви, растерзало ее на части. Другие говорили, что девушка от страха тронулась рассудком и утонула в реке. Ну а третьи, из любителей добрых концовок, говорят, что никакого чудовища не было. А влюбленные просто сбежали от родителей девушки, не дававших согласие на брак.
Только Коты, конечно, догадываются, что все-таки растерзал красавицу батыр. Потому что зверь в человеке всегда сильней.