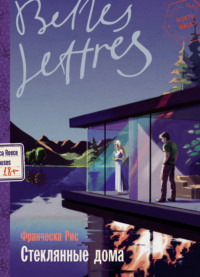Полная версия
Наблюдатель
– Il y a un peu trop de basse par contre, Hugo[52], – произнес он театральным шепотом, затем повернулся к Клариссе. – Правда? Спасибо, это я смиксовал!
Я стояла с бокалом дешевого вина в руке, без всякого стеснения роясь в книгах, – как вдруг почувствовала, что сзади кто-то подошел.
– C’est fou[53], – тихо сказал Юго, – мы же не виделись уже столько лет!
Знаю, подумала я, и хорошо бы нам вообще не встречаться. Ибо последняя наша встреча обернулась катастрофой. Он пригласил меня к себе на «Маргариту» (а я тогда невинно решила, что речь о пицце). После трех бокалов я была так пьяна, что руки и ноги почти меня не слушались. Последнее, что помню, это как умоляла его поставить песню Gracias a la vida[54], а потом, сидя на полу его гостиной, пыталась сквозь слезы подпевать на испанском (плакала я не столько из-за песни, сколько от того, что узнала, что Юго спит с моей соседкой).
Улыбнувшись ему, я нервно провела рукой по волосам.
– Да, давненько не виделись.
Он, не мигая и без тени смущения, уставился на меня.
– Я соскучился, – сказал он, касаясь моей руки.
«Не обращай внимания на мурашки, – мысленно приказала я себе. – Ради всего святого, забей на мурашки».
– Эй, mec[55], – позвал Клеман, – забьем еще petard[56]?
– Есть идея получше, – ответил Юго, не сводя с меня глаз. – Организуй нам что-нибудь посерьезнее.
* * *«В общем, произвести впечатление на Клариссу удалось», – сказала я собственному отражению в зеркале ванной комнаты (между прочим, удивительно привлекательному, даже с плотно сжатой челюстью и расширенным зрачками). Я только что вдарила и теперь ощущала, как по гортани сползают едкие капли. Из-за соседней двери доносился ее смех. Теперь она считала меня неординарной и свободолюбивой бунтаркой. Тут, осознав, что мое отражение оскалило зубки, я сменила выражение лица на более соблазнительное и, как мне казалось, приятное. Юго, вне всякого сомнения, хочет со мной переспать. Этот идиот слушал с открытым ртом даже мой совершенно бессвязный монолог о том, что доказательства существования Бога можно найти в отблесках заката и фразах из песен. Переспать с ним, ничего не чувствуя, – вот что могло бы стать актом высшего возмездия за то, как он обошелся с двадцатилетней мной. По сути, это был мой священный феминистический долг. Я собрала волосы в пучок на макушке, вытащив по бокам парочку продуманно небрежных прядей. Одно из преимуществ молодости состояло в том, что мне не требовалось высыпаться перед работой.
Когда я вернулась в гостиную, Клеман воодушевленно показывал Саломе и Клариссе кучу шариковых ручек и обрывков рекламных буклетов страховых компаний, называя это заготовкой для своей инсталляции.
– Так ты работаешь в лондонской галерее? – обратился он к Клариссе. – Блин, да это же просто зашибись!
– Так в чем именно заключается твой художественный манифест? – машинально спросила она.
Юго меж тем, сидя за ноутбуком, организовывал нам звуковое сопровождение.
– Садись рядом, – велел он. Я повиновалась. – Кайфуешь?
– О да! – с жаром кивнула я.
Слова вылетали изо рта слишком быстро, выдавая степень моего опьянения. Юго ухмыльнулся и потрепал меня по щеке.
– Ты все так же очаровательна и мила, – прошептал он, притянув мое лицо к своему. От него пахло пивом и табаком, и я ощутила мочкой уха его теплое дыхание. – Знаешь, я по-прежнему часто думаю о тебе.
Мы оба знали, что это ложь: если верить его страничке, вот уже почти четыре года он встречался с привлекательной блондинкой.
– Я тоже, – с моей стороны вранье было частичным: я периодически думала о большинстве парней, с которыми спала.
– Petit soleil[57], думаю, сегодня тебе стоит остаться, – проговорил он, целуя меня в мочку и зарываясь пальцами в мои волосы.
* * *Позже, когда все мы спустились, Юго скрутил самокрутку.
– Атмосфера тут и правда странная, – согласилась Кларисса, глубоко затягиваясь сигаретой Клемана. – Полиция кругом, сумки проверяют…
– Это потому что мы, по сути, стали полицейским государством, – хмыкнул Клеман. – 13 Novembre – putain de Nuit des Longs Couteaux[58].
Юго, передернув плечами, сцепил руки.
– Non, mais[59], серьезно, Франции – кирдык, – кивнул он. – Да и всем нам. Мировое правительство, чувак. Всей Европе – кранты. Я правда надеюсь, что Британия проголосует за выход. К черту этот ЕС, к черту МВФ… И вообще всех этих гигантов!
Саломе застонала.
– Non, mais Hugo, t’es vraiment trop con quoi…[60]
– Это я-то придурок? Нет, ты серьезно? Ты хоть понимаешь, что сейчас вообще в мире творится?
Тут я почувствовала, как в груди поднимается волна совершенно не свойственной мне злости, и сказала:
– Да, но отдать страну в руки кучки фашистов – это что, решение?
Он смерил меня высокомерно-снисходительным взглядом:
– А кто же, по-твоему, управляет ею сейчас, ma poule?[61]
– Voilà[62], – самодовольно кивнул Клеман. – Если Великобритания выйдет из ЕС, это станет важным шагом к тому, чтобы покончить наконец с этой прогнившей системой.
Я приложилась к самокрутке, протянутой мне Юго.
– Ребят, да не будет никакого типа праведного ниспровержения капитализма, а будет лишь последняя конвульсия увядающей нации, цепляющейся за постыдное колониальное прошлое, которое поддерживает некую иллюзию статусности.
Я затянулась снова и испытала прилив смутной гордости.
Юго сердито зыркнул на меня.
– По-моему, вы, девчонки, просто не понимаете, что вокруг происходит. Побывали бы в лагерях…
– Quoi, comme vous?[63] – рассмеялась Саломе.
– А вы-то чем занимаетесь? – спросил он обвиняющим тоном. – Вот ты, Леа́, рассуждаешь тут о фашистах в своей стране. А я знаю, что делал бы, если бы к власти у нас пришла Марин Ле Пен…
– Точно так же занимался бы всякой хренью, – наконец вмешалась Кларисса, одарив его холодным взглядом. – Сидел бы в своей утопической конурке, за которую платят мама с папой, покуривал бы в углу и разглагольствовал о РАФ[64].
В комнате повисла гробовая тишина. Кларисса посмотрела мне прямо в глаза, и я вдруг ощутила острое желание непременно с ней подружиться. Ишь, как лихо заткнула парням рты!
– Ну что, вызываем такси? – спросила она, зевнув. – Я ужасно устала, да и кайф прошел, так что чувствую себя мизантропом.
Она решительно встала и своей спокойной улыбкой напомнила мне Анну.
– Большое спасибо за гостеприимство. Было здорово!
Улыбка-то как у Анны, но, когда Кларисса осадила Юго, я невольно заметила, как сильно она похожа на Майкла.
* * *Следующим вечером, падая с ног после десятичасовой смены и примерно получаса сна, я вернулась в Данфер за велосипедом. К седлу была приколота записка, написанная незнакомым почерком:
«Большое спасибо за прошлую ночь! Жаль, что все так закончилось, – до этого было очень круто (хотя, конечно, «искусство» у Клемана сомнительной ценности…).
Увидимся в Сен-Люке. ххх![65]»
Определенно, она у меня в кармане, подумала я – и тут вспомнила ее первую улыбку, изогнувшую плотно сомкнутые накрашенные губы.
6
Майкл
Я впервые видел ее не в униформе – не считая того случая, когда она вышла ко мне в пеньюаре. Сейчас на ней было бледно-голубое, сшитое на заказ пальто с пышным меховым воротником; глаза подведены черным, отчего взгляд ее сильнее обычного напоминал олененка Бэмби. Она ждала меня, прислонившись к ограде парка. Я опоздал на двенадцать минут. Приблизившись, некоторое время я стоял и смотрел на нее – пока она меня не засекла. И еще в тот вечер я впервые видел ее в темноте. Был уже почти конец сентября, и жемчужно-серые дни все раньше превращались в ночь. Свет фонаря подсвечивал ее бледное лицо, такое печальное в своей спокойной неподвижности. Я столько раз ее себе представлял – в полумраке, с разметавшимися по подушке волосами, с чуть приоткрытым от удовольствия влажным ртом. Глаза у нее всегда закрыты; в своих фантазиях я никогда не видел, как в них отражается свет фонарей.
Тут она заметила меня и вся озарилась обезоруживающей, по-детски искренней улыбкой, обнажившей зубы. Я решил не извиняться за свое опоздание.
– Куда пойдем? – спросила она.
Я с восторгом отметил про себя, что лицо ее из меланхоличного сделалось возбужденным. У меня была мысль взять Астрид с собой на студенческий вечер, где должна была выступать группа моего друга, – но, едва увидев ее, я тут же понял, что пока не хочу, чтобы она превращалась в осязаемую реальность; чтобы ее имя обретало четкие контуры в устах обыкновенных, облеченных плотью людей, ежедневно присутствующих в моей жизни.
– Ты любишь джаз?
– Конечно, – отозвалась она, и я обрадовался, потому что рядом с ней испытывал некое подобие ностальгии – мне нравилось представлять ее эдаким призраком прошлого десятилетия, дочерью славных пятидесятых годов.
– На Олд-Комптон-стрит есть джаз-клуб – можно было бы пойти туда. Там полно ровесников наших родителей – играют хиты прошлых лет и вспоминают, как видели в Нью-Йорке Чарли Паркера, хотя явно не бывали дальше Слау.
Она хихикнула.
– Отлично!
Я улыбнулся и взял ее за руку. Чуть влажная, отметил я про себя; как это трогательно.
* * *– Мне просто кажется, что в этой версии немного переборщили с аранжировкой – вот и все.
– Билли Холидей? Переборщила с аранжировкой? – возмущенно переспросил я.
– Ну, Билли, конечно, богиня, кто бы спорил… Только ведь главная изюминка версии Чета Бейкера – в ее простоте. Обожаю момент, когда вступает перкуссия, щеточки по малому барабану… Ух-х, аж мурашки по коже!
Все дорогу до Олд-Комптон-стрит она не проронила ни звука – и меня это вполне устраивало. А едва только мы спустились в темный, прокуренный подвал – мгновенно оказалась в своей стихии. Пробравшись сквозь толпу к барной стойке, она заказала шотландский виски, потом повернулась ко мне и спросила (с артикуляцией истинной уроженки Боу[66]):
– А ты что будешь?
После двух порций скотча она по-прежнему молчала, но в этом молчании не было ни капли робости или стеснения. Усевшись на барный стул, Астрид закрыла глаза, блаженно покачиваясь в такт музыке. В жизни бы не подумал, что она способна на подобное самообладание.
Заговорила, лишь когда я зажег сигарету.
– О, и мне, и мне!
– Ты куришь?
– Балуюсь, – ответила она театральным шепотом. – Папа вечно выходил из себя, стоило ему застукать меня с куревом; пугал, что я испорчу себе голос.
Я протянул ей сигарету.
– Все его друзья говорили, что от этого голос у меня станет только лучше – брутальнее. Но папа любит, чтобы все было, как он сказал, понимаешь?
– Так твой отец – джазмен?
– Ну, вообще-то мой папа плотник, – рассмеялась она, – но да, когда-то он играл на трубе. С мамой они познакомились, когда он и его группа выступали в метро «Бетнал-Грин» во время «Блица»[67]. Каждую ночь они брали свои инструменты и играли, чтобы заглушить воздушную тревогу.
Мне внезапно стало не по себе от того, насколько органично она чувствовала себя здесь. Лондон был у нее в ДНК. Я попытался вспомнить то время, когда только перебрался сюда, – после своего совершенно не примечательного детства на севере Англии и трех лет в Оксфорде. Мне ничего не хотелось сильнее, чем вобрать в себя этот город и раствориться в нем. Хотелось, чтобы меня крестили в Темзе; чтобы корни мои проникли в эту землю и переплелись с корнями здешних платанов; чтобы у меня был тот же тембр голоса и та же долгота гласных, те же паузы между словами и фразами, те же интонации, что у Пипса и Диккенса, у завсегдатаев джентльменских клубов, уличных торговцев, колоколов Олд-Бейли. Словом, мне хотелось быть как Астрид. Но гораздо больше меня поразила ее музыкальная осведомленность. Я-то планировал просвещать ее – а она знала все мелодии и подпевала им. Когда прозвучало несколько отрывистых, низких нот на контрабасе и пара сложных ломаных аккордов, она наклонилась ко мне (и когда это успела так освоиться?) и, коснувшись губами моей скулы, выдохнула:
– Ой, как мне нравится! Моя любимая!
– Билли Холидей, – согласно пробормотал я. – Классика.
– О нет, – шепотом возразила она. – Снова Чет.
Признаваться, что с этой версией я не знаком, было выше моих сил. Астрид же приняла мое молчание за несогласие.
– Но именно версии Билли я пыталась подпевать в детстве, – поспешно добавила она, нервно поерзав на стуле, – будто смущенная тем, что посмела оспорить мое мнение.
Запели о боли нецелованных губ. Пора, решил я; взял сигарету у нее из рук и затушил о маленькую пепельницу Ricard.
К стыду своему я ждал, что поцелуй ее будет пахнуть клубникой, – все-таки фантазия о Тэсс прочно укоренилась в моем не по годам развитом (и тем не менее незрелом) мозгу, и оттого я мечтал, что на вкус она окажется как сочная и спелая ягода, созревшая под теплым дорсетским солнцем. Почти что ожидал найти в ее зубах крошечные семечки. Но вместо этого язык мой ощутил букет табака, виски и синтетической ванили от ее бальзама для губ. Сперва я целовал ее целомудренно – осторожно, почти не размыкая губ; но потом, под моим натиском, она наконец приоткрыла их (пухлые, мягкие, почти как у порноактрисы) и ответила на поцелуй. Сладостная дрожь пробежала по ее лицу, и она робко взяла меня за руку. Я почувствовал, как рот у меня сам собой расплывается в улыбке. Мне безумно захотелось вновь ее поцеловать. Она смотрела на меня с таким милым удивлением. Я притянул ее к себе, крепко удерживая, чтобы не опрокинуть барный стул, и поцеловал в лоб.
– Согласен насчет аранжировки Чета Бейкера, – сказал я.
* * *Спустя много лет, в небольшом кинотеатре неподалеку от того клуба, я посмотрел фильм Брюса Уэбера о Чете Бейкере[68]. Заведение превратилось в мегамонстра восьмидесятых – винный бар, а когда я проходил мимо в последний раз, то увидел на его месте какую-то модную бургерную, набитую молодежью. Я сидел один в последнем ряду кинозала, пропуская через себя то, что происходило на черно-белом экране. Перед моими глазами проносилась вереница женщин Чета, преданных им и теперь отдававших на суд зрителя свои истории, словно разрозненные кусочки мозаики. Среди этих осколков и фрагментов своего блестящего прошлого вдруг возник и он сам – старый беззубый наркоман, социопат, потускневший от времени. Подобно его брошенным детям, на чьих лицах лежала бледная печать былой красоты родителя, и обожавшей его матери, и всем отвергнутым возлюбленным и друзьям, я внезапно обнаружил, что совершенно им очарован – несмотря даже на тусклые, остекленевшие глаза и все менее разборчивую, сбивчивую речь. Он был Аполлоном, любимцем богов и их игрушкой, а я – его верным слугой.
7
Лия
В свое предпоследнее утро в Париже, проснувшись, я обнаружила, что моя крохотная chambre de bonne залита мягким голубоватым светом. По истертому паркету расплывалась узорная тень от кованых перил французского балкончика, а на отслаивающиеся обои над кроватью легло отражение радуги. Окна были распахнуты настежь, и налетевшие комары за ночь искусали меня до смерти. После нескольких недель нескончаемого дождя в город наконец пришло лето и теперь с каждым днем все увереннее заявляло о своих правах. Кварталы, подобные моему, мало-помалу пустели: горожане разъезжались в отпуска. К началу августа в городе оставались одни лишь иммигранты, которым отдых был не по карману, а моя улица за ночь оделась строительными лесами: из года в год велись попытки подправить лицо Парижа – великолепное и неминуемо стареющее. Булочная на углу готовилась закрыться на лето ровно через день после моего предполагаемого отъезда, что я сочла счастливым совпадением и, сунув ноги в эспадрильи, спустилась вниз. На улице меня на своеобразно звучащем французском приветствовали строители-поляки:
– Miss! T’es pas encore partie?[69]
– Non, – жизнерадостно отозвалась я. – Demain[70].
Чувствуя себя немножко предательницей, я в то же время испытывала скорее облегчение от того, что меня причислили к рядам местной буржуазии. Августовский Париж оборачивался пустошью, где на меня как по команде нападали агорафобия, самокопание и бессонница, а в изнуряющей жаре, под ослепительно-белым солнцем, и без того невыносимо долгие часы тянулись еще медленнее. Слишком много пространства для мыслей, и в то же время – все эти мысли как будто заперты в ловушке, в эхо-камере, в которую город превратился стараниями Османа[71]. В августе я становилась мелочной и ревнивой. Соцсети представлялись невыносимым каталогом чужих успехов, и я еще острее ощущала собственную неудачливость. Почему я не отправлялась в велотур по Тоскане со своим чувствительным и в то же время практичным молодым человеком, еще и имеющим самые серьезные намерения? Почему не писала страстных од мексиканским авокадо, съеденным на завтрак в компании колоритных местных ребятишек? С самого начала учебы я каждое лето проводила в липкой жаре Лондона или Парижа, вечно пьяная, неизменно обслуживая столики и перманентно попадая в нездоровые и токсичные недоотношения.
В дни, предшествовавшие моему отъезду, я, к своему удивлению, стала необычайно организованной. Даже сумела найти пугающе серьезную американку, чтобы на время отсутствия сдать свою квартирку в субаренду. Когда двумя неделями раньше я распахнула перед ней двери, она издала вопль неподдельного восторга.
– Ты чего, Тэйлор? – ошарашенно спросила я.
– О господи! Этот дом – прямо как в «Котах-аристократах»! – взвизгнула она, радостно захлопав ухоженными ладошками.
Я одарила ее почти безумной улыбкой, стараясь попасть в унисон ее ликованию, и неловко переступила с ноги на ногу. Тэйлор в экстазе осматривала комнату. Я предложила ей бокал вина.
– Нет, спасибо! – широко улыбнулась она. – У меня детокс!
– А, – протянула я, изобразив понимание.
– Я работала на органической ферме в Италии и съела там столько моцареллы, просто потрясающе, я буквально слилась с этой культурой! Ну, типа, моя прапрабабушка была с Сицилии – Богом клянусь, я прямо чувствовала это в крови! Да ты и сама, наверное, заметила? Все говорят, что у меня очень итальянский разрез глаз!
Я кивнула и что-то промычала в знак согласия.
– Ну и вот, ела я там этот сыр – а для меня это теперь так непривычно, я же почти что веганка, но блин, это ж Рим! А в Риме веди себя как римлянин, верно? Ну то есть не совсем в Риме, я же на самом деле была не в Риме…
Она убрала прядь песочного цвета волос за ухо, продолжая звонко стрекотать, пока я украдкой опустошала свой бокал.
Да, в целом я испытывала скорее облегчение. В памяти сами собой всплыли слова Майкла о «типичной английской семейке богемных буржуа с непрекращающимся хороводом гостей, детей и пьяных друзей». Именно о таких летних каникулах я мечтала с самого подросткового возраста. Лето дома было чередой бесконечных попоек на парковке у Tesco или где-нибудь в поле, за чьей-то фермой; парней с дурацкими стрижками, распевающих Wonderwall[72]; приторного фруктового льда флуоресцентных цветов и с химическим привкусом, что мы поглощали на автобусных остановках, прячась от дождя, и ожидания – ожидания, когда же наконец начнется настоящая жизнь.
* * *– Забавно, что ты это говоришь, – потому что моя жизнь тоже катится в тартарары, ха-ха-ха!
Было слегка за полночь, и все в маленькой, прокуренной квартире были либо пьяны в стельку, либо обкурены до полного помутнения рассудка. Пытаясь вновь наполнить свой пластиковый стаканчик ти-пуншем[73], от которого слезились глаза, я внезапно угодила в ловушку. Круглолицая, несомненно – англичанка, она уже выкладывала мне все подробности своей жизни:
– Это просто абсурд! Я все думаю: вот получила бакалавра с отличием в Эдинбурге – а сама уже два года делаю кайпириньи[74] для графических дизайнеров! Ха-ха-ха!
Я спешно окинула комнату взглядом в поисках поддержки – и не увидела ни одного знакомого лица. Те из нас, кто остался в городе, отправились на пикник на Уркском канале и каким-то непостижимым образом оказались в самом разгаре pendaison de crémaillère[75] совершенно незнакомого человека возле парка Бют-Шомон. Риан (а может, Бетан? Или Меган? Определенно, у нее было валлийское имя, но произносилось оно на подчеркнуто английский манер) решительно затянулась сигаретой и взяла меня за руку.
– В общем, наверное, пойду тут в магистратуру – раз это бесплатно… по коммуникациям или типа того…
И тут я заметила, что из дальнего конца комнаты за мной наблюдают. Он был высокий и поджарый, со впалыми щеками и с мускулистыми руками, сплошь перевитыми сухожилиями, и обладал какой-то усталой красотой. Воспользовавшись тем, что моя новая подруга на секунду замолчала, чтобы перевести дыхание, я сказала:
– Ой, Бетан, погоди-ка секундочку, я тут увидела своего друга!
– А, да не парься! – ответила та сквозь зубы. – Увидимся!
«Надеюсь, что нет!» – подумала я и, пригладив волосы, как меня лет в пятнадцать научила сестра («а то ты как та девчонка из “Звонка”!»), подошла к нему.
– On se connait déjà?[76]
– Привет.
– Ты англичанин? – спросила я с легким недоверием.
– А что, не похож? – ухмыльнулся он.
– Ну, просто у тебя такой прямой взгляд. Такой… типично галльский.
Он пожал плечами.
– Я бы сказал, концентрация англичан сегодня несколько зашкаливает, а?
– По-моему, один из ребят – из Манчестера или вроде того.
– А, точно! Я только что видел, как он выходил из уборной в платье – тут он изобразил северный акцент: «Ой-ой-ой, я облился пивом!»
Меня передернуло: южане, передразнивающие северян, напоминают Джозефа из «Грозового перевала». Я снова спросила, не встречались ли мы раньше, – на этот раз по-английски.
– Не припомню, – ответил он, бесстрастно разглядывая мое лицо, и добавил с улыбкой: – Полагаю, мое «галльское» поведение в большей степени обусловлено окружающей обстановкой.
Я обвела взглядом комнату и рассмеялась. Казалось, некая машина времени непостижимым образом перенесла меня на вечеринку кого-то из моих сокурсников той поры, когда мы еще учились. Парижане выделялись из толпы, будто подсвеченные особой иллюминацией, – вероятно, тому виной была их удивительная способность держаться прямо. В остальном же комната была битком набита самыми разными иностранцами: тут и парочка патлатых парней в футболках для регби, и девчонки – явно с Британских островов – в боевой раскраске и джинсах с высокой талией, а также и те, чей выбор в одежде гораздо смелее и ярче – но в конечном счете уродливее (студенты художественной академии). Рядом с ними – девушка откуда-то из Восточной Европы, в узорчатых чулочках и с окрашенными в сливовый цвет волосами, и, наконец, американцы – с горящими глазами, дерзкие, раздражающе пышущие здоровьем.
Я решила рискнуть:
– Может… уйдем?
Он ухмыльнулся:
– Вижу, и ты в восторге от «французского образа жизни».
Произношение у него было такое ужасное, что у меня не осталось сомнений: он здесь всего лишь в отпуске.
– Давай покажу тебе Париж, – предложила я, кивнув в сторону двери.
Удушающая жара уже отступила, и ночь была прохладна и свежа, а улочки вокруг пустынны. Слегка пошатываясь от количества выпитого, я направилась к тому месту на окраине парка, где оставила свой велосипед. Вдохнув свежий ночной воздух, я осознала, что, оказывается, изрядно пьяна.
– Как тебя зовут-то? – спросила я, неловко возясь с велосипедным замком.
– Лал, – ответил он, беря у меня ключи. Имя, похожее на детсадовское прозвище, – верный признак представителя золотой молодежи. Мы двинулись вниз по холму, к зданию мэрии 19-го округа и каналу, где мерно плескалась черная вода.
– Погоди-ка, – он присел на величественных ступенях и достал из внутреннего кармана пиджака бутылку виски. – Будешь?
Я плюхнулась рядом.
– А ты разве не с друзьями там была?
– Вроде да, – рассеянно ответила я, умолчав о том, с какой легкостью оставила своих, едва только на горизонте возник привлекательный мужчина. – А ты?
– Только тот парень из Манчестера. Хотя на самом деле он из Лидса. Младший брат моего лучшего друга.
– А, ясно, – протянула я, вытирая рот тыльной стороной ладони; виски обжег мне горло, и я сглотнула. – Так, значит, ты приехал в Париж на его новоселье?
– Естественно нет, – фыркнул он, тоже сделал глоток и добавил с загадочно-самодовольным видом: – Я просто ищу свой путь.
Я закатила глаза, не проглотив наживку, и потянула его за руку, вынуждая встать:
– Как и все мы! – и добавила нараспев: – Viens, vite![77]
Мы вновь вернулись к точке отсчета – Уркскому каналу, у которого даже в столь поздний час было не протолкнуться. Повсюду – разношерстные компании, концентрическими кругами рассевшиеся вокруг своих покрывал для пикников, уставленных бесконечными бутылками вина и тарелками с сыром, всевозможными закусками, баночками с хумусом и табуле[78]. Я обожала тут бывать летними вечерами. На песчаной полосе вдоль набережной расположились игроки в петанк[79], опьяненные солнечной энергией, подпитывавшей их до поздней ночи. В воздухе плыли звуки музыки, исполняемой труппой седеющих хиппи-антифа: скрипач, гитарист и, конечно, вездесущие бонго. Улыбаясь, мы наблюдали за тем, как один из них пытался вовлечь невинных прохожих в несколько неуклюжий, но в то же время одухотворенный вальс. «Mam’zelle! – кричал он, не выпуская изо рта самокрутку. – Vous voulez danser?»[80]