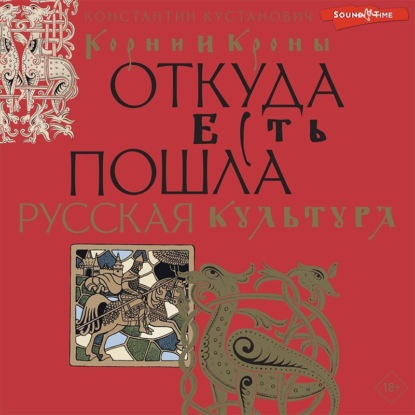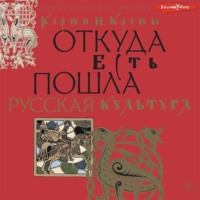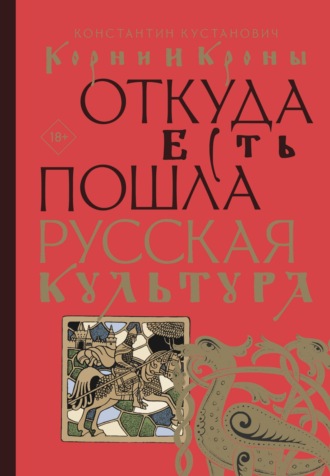
Полная версия
Корни и кроны. Откуда есть пошла русская культура
Глава 5
Культура, ориентированная на выражение: наследие русского православия
Красота или догма
Преобладание обрядности над духовностью в русском православии привело к зарождению и развитию в русской культуре предпочтения «лепоты» содержанию, функциональности. В самом начале христианизации Руси именно любовь к красоте, а не догма, превалировала в восприятии византийской религии. Отсюда такое внимание к великолепию литургии, икон, церквей. В своем грандиозном труде «Икона и топор», посвященном русской культуре, американский ученый Джеймс Биллингтон отмечает этот дисбаланс между красотой и догмой в русской религии:
‹…› сложные философские традиции и литературные нормы Византии (не говоря уже о классических и эллинистических корнях византийской культуры) русским православием никогда не были должным образом усвоены ‹…›
В те времена на Руси конкретная красота более, чем абстрактная идея, выражала суть христианства ‹…› Человек не должен был размышлять над тем, что уже твердо установлено, или толковать таинства, но с любовью и смирением блюсти и украшать унаследованные формы молитвы и богослужения ‹…› Во всех старорусских описаниях христианских правителей «обязательно упоминалось об их физической красоте. Наравне с милосердием и благотворительностью это непременная черта идеального князя» (цитата из Федотова, 1960).
В те времена русских привлекала в христианстве эстетическая притягательность литургии, а не рациональная (умственная) модель богословия[140].
Стремление к красоте стало одним из важнейших аспектов русской культуры и вылилось в стремление русских людей украсить себя и свой быт. Крестьяне украшали свою одежду, часто не зная меры. Крижанич с отвращением описывает русских крестьян, мужчин и женщин, но особенно женщин, которые готовы отдать «чуть ли не зеницу ока» за неудобные яркие одежды, расшитые золотом и жемчугом. Для контраста он приводит немцев, обычно одетых в серое, но комфортное платье. В Венеции, пишет он, существовали законы, устанавливающие суммы, которые люди высшего сословия могли тратить на свою одежду, а людям низшего сословия вообще запрещалось носить шелк, жемчуг, золото и тому подобное. А в Спарте, утверждает Крижанич, одним только блудницам разрешалось носить цветное платье и золотые украшения. Русские же могли потратить целое состояние, чтобы покрасоваться в дорогой одежде[141].
Украшался по возможности и быт. Широкое распространение получили расписные и резные прялки, узорная резьба по дереву внутри и снаружи крестьянских изб, декоративные детали на оружии и предметах обихода, художественное исполнение детских игрушек, изделия из серебра с применением черни и эмали. Русское серебро вообще является непревзойденным по разнообразию форм и технике декора, включая ручную чеканку, гравировку, чернь, разнообразные методы эмалирования, художественные литье и штамповку. Причем здесь речь идет не о знаменитых фирмах Фаберже, Хлебникова, Овчинникова, Сазикова и им подобных, которые в основном работали на наиболее состоятельный слой российского населения; мастеров высокого класса, производивших уникальные, высокохудожественные и крайне дорогие вещи из драгоценных металлов, хватало и на Западе, но и там декоративный потенциал чернения, например, полностью игнорировался, а по эмалям только норвежцы могли состязаться с русскими мастерами и даже превосходили их в применении таких методов эмалирования, как plique-à-jour (витражная эмаль) и guilloché (эмаль по гильоширу). Последняя техника широко применялась в России фирмой Фаберже. Кроме вышеперечисленных фирм, в ХVIII и особенно в XIX – начале XX века тысячи российских мастеров[142] производили разнообразные декоративные стопки, рюмки, солонки, ложки, чашки, табакерки, портсигары и другие предметы обихода из серебра, которые были по карману потребителям среднего класса.
Возможно, традиционной тягой русского человека к красоте можно объяснить феномен небывалых темпов развития всех искусств в XIX веке практически с нуля до западноевропейского уровня. Конечно, все виды высокого искусства культивировались преимущественно в дворянской среде, подверженной западному влиянию и имеющей доступ к западному образованию, но национальный характер как простого народа, так и аристократии происходил из одного корня и взращивался на одной почве (об этом ниже), так что стремление к прекрасному было общим.
С другой стороны, ориентация на выражение, зарожденная в русском православии из-за акцента на обрядность в ущерб духовности, привела к игнорированию содержания во всех аспектах российской жизни. Как в далеком прошлом, так и в сегодняшней России состоятельные люди тратят огромные деньги на «понты». Иностранные путешественники в XV–XVI веках пишут о русских «красавицах», размалеванных белилами и свекольным соком. Традиция продолжается и в наши дни. Пресловутая красота русских женщин во многих случаях достигается искусной и многочасовой работой с макияжем и тщательным подбором нарядов и украшений. При этом россиянка не стесняется предстать перед оценивающим взглядом в качестве сексуального объекта, наоборот – к этому она и стремится, по крайней мере в создании внешнего облика. Справедливости ради следует отметить, что с начала перестройки, когда советское общество сбрасывало всевозможные оковы, включая детали женской одежды, прикрывающие соблазнительные места, вкусы и стили несколько изменились. Если в начале девяностых многие иностранцы путали вполне добропорядочных женщин с «блудницами» (вспомним Крижанича), основываясь исключительно на «боевой» раскраске и вызывающей смелости нарядов, то некоторые нынешние женщины, поездив по эмансипированному Западу, могут даже облачиться в джинсы и показать себя без косметики. Но это все-таки прогрессивное меньшинство. Остальные продолжают придерживаться принципа «по одежке встречают», и «одежка» включает в себя весь ансамбль облачения женщины, тщательно продуманный, чтобы подчеркнуть наиболее сексапильные части лица и тела и замаскировать не столь привлекательные.
Такое представление о женской внешности замечательно иллюстрируется впечатлениями, которыми одна россиянка поделилась в сетевой «Газете. ru» о своей жизни в Дании, и последующими комментариями читателей этой газеты. Женщина провела в Дании пять лет в связи с работой мужа, и из контекста понятно, что на момент написания своих заметок она продолжает там жить. Ее описание Дании, полное отрицательных стереотипов о жизни в этой стране, представляет собой типичное проектирование ценностей собственной культуры на культуру чужую. В частности, автора ужасно раздражает внешний вид датчан, и особенно датчанок.
Бросилась в глаза тотальная нечистоплотность. Люди повсюду ходят в грязной, мятой, рваной одежде. Женщины совершенно не следят за собой. Типичная датчанка выглядит примерно так: нечесаные волосы, собранные в небрежный пучок, черный балахон, поверх него не то шарф, не то платок, черные колготы и цветные кроссовки[143].
Не заботятся датчане и о своих детях, позволяя им бегать по улице с сопливыми носами, вместо того чтобы отвести к врачу; одевают они их слишком легко для прохладной погоды и иногда даже выпускают на улицу босиком. Последнее, по ее мнению, может привести не только к жестокой простуде, но и подвергнуть детей массированной атаке миллиардами вредных микробов и бактерий.
Заметки эти были опубликованы 16 октября 2016 года. В течение четырех дней после публикации в газете появились 703 комментария – необычно высокое количество вообще и в частности за такой короткий срок, да еще по такому, на первый взгляд, незначительному поводу. Большинство комментариев было написано людьми, жившими или бывавшими в Дании или в других европейских странах. Среди комментаторов встречались, конечно, трезвые голоса, которые справедливо замечали, что для европейцев в первую очередь важна удобная одежда, во всяком случае в рутинных бытовых ситуациях, и что темные цвета отнюдь не означают неряшливости – скорее всего, одежда неброская, но чистая. И несмотря на такое «безответственное» отношение к детям, детская смертность в Дании гораздо ниже, чем в России, а средняя ожидаемая продолжительность жизни намного выше[144]. Один читатель из Финляндии, чья «жизнь была связана с Россией в течение шестнадцати лет», наиболее полно и без излишних эмоций отразил подобные мнения в своем пространном комментарии, выдержки из которого приводятся ниже (языковые особенности оригинала сохранены):
Мне не все понравилось [в России], но как гость, мне в голову не приходило публично критиковать страну, в которой я временно бывал. Все-таки жить там был мой собственный выбор. ‹…› В Скандинавии практичность важнее. Например, удобно ходить в магазин в удобной обуви чем в 15-см шпильках, и дамы считают, что из-за короткого визита в магазин не стоит полчаса заниматься макиажом. ‹…› Что так плохо в том, что дети ходят босыком или сидят на траве? ‹…› Простудиться не так легко, как принята думать в России. Доказано, что слишком строгая гигиена приводит к тому, что дети легче заболевают инфекционными заболеваниями. [Цитирует из оригинальной публикации]: «Детям дозволено все – можно пить из лужи, можно валяться в грязи, лить ее себе на голову, бегать в носках или босиком, снимать одежду, даже если на дворе зима, или вообще бегать голышом» – все равно они в среднем живут до 80 лет без проблем, и никаких опасных заболевании они от этого не получают.
Как гость – можно страну всегда покинуть. Почему так мучаться? Жаль, что автор принудительно вынуждена жить в Дании[145].
Однако многие комментаторы соглашаются с автором. По одному лишь внешнему виду автор статьи и поддерживающие ее читатели делают далеко идущие выводы, не основанные ни на каких фактах: Европа приходит в упадок; европейцы не только не заботятся о внешнем виде, им даже лень чистить зубы, принимать душ и менять одежду. Автор видит тусклую, темную одежду и почему-то заключает, что она не только не красивая и не элегантная, но и грязная. Здесь неоспорима жесткая связь между выражением и содержанием – выражение создает содержание. Если женщина «красиво» (по российским понятиям) одета – она чистоплотна и следит за собой; если же на ней «уродливый балахон» – она грязна, ленива и махнула на себя рукой.
Не последнюю роль играет здесь и коллективистское мифотворчество, вызванное древним и непреодолимым желанием найти доказательства превосходства России над Западом. Пожалуй, никто в этом мифотворчестве не может побить поэтический талант Маяковского, который ничтоже сумняшеся демонстрирует бессмысленное и необоснованное чувство национальной (советской ли, российской ли) гордости по отношению к Америке. Описывая в стихотворении «Бродвей» (1925) технические достижения, которые он видит во время посещения Нью-Йорка, поэт заключает:
!!!!Я в восторгеот Нью-Йорка города.Нокепчонкуне сдерну с виска.У советскихсобственная гордость:на буржуевсмотрим свысока.Конечно, нет никакой необходимости «сдергивать кепчонку», чем-то восхищаясь в чужой стране, но, с другой стороны, никак не удается изжить этот ничем не оправданный взгляд свысока и «собственную гордость» по отношению к Западу.
Выражение, которое генерирует содержание, не ограничивается внешним обликом человека или предмета, приводящим к поверхностным заключениям по поводу Европы или Америки. К сожалению, культурная ориентация на выражение, уходящая корнями в русское православие, не только порождает антизападную мифологию и приятную веру в превосходство над Западом. Не отсюда ли возникали дикие случаи, нередкие в «мрачные времена»[146] сталинской эпохи, когда уборщицу, разбившую случайно бюст вождя, обвиняли в терроризме, а редактора газеты, допустившего опечатку в имени «гения всех времен и народов», – в антисоветской пропаганде и (или) вредительстве? Вербальное выражение, особенно литература, имело в России до недавнего времени колоссальную власть над умами населения именно потому, что создаваемые ею альтернативные действительности воспринимались как реальность, как сама жизнь. Владимир Маканин приравнивал литературу к физической среде обитания человека и утверждал, что русские живут литературными сюжетами[147]. Нагибин писал «о нереальности реальной жизни и всевластии литературы, которая вовсе не воспроизводит, не отражает, а творит действительность. Иной действительности, кроме литературной, нет. Вот почему наше руководство стремится исправлять литературу, а не жизнь. Важно, чтоб в литературе все выглядело хорошо, а как будет на самом деле, никого не интересует»[148]. И опять же, великий пролетарский поэт увековечил эту могучую силу русской литературы в своих стихах:
Я хочу,чтоб к штыкуприравняли перо.С чугуном чтоби с выделкой сталио работе стихов,от Политбюро,чтобы делалдоклады Сталин.(Маяковский, «Домой», 1925)Разве кому-нибудь на Западе могла прийти в голову мечта, которая через какой-то десяток лет станет действительностью в СССР? Власти в России всегда относились к слову очень настороженно, будь то художественная литература, публицистика или драматургия. Все подвергалось жесткой цензуре и до революции, и после. Если вспомнить судьбы Новикова, Радищева, Пушкина, Лермонтова, Чаадаева, Шевченко, Полежаева, Достоевского, Писарева, Чернышевского, то и при царях за протестное слово по головке не гладили. При Сталине поэты и писатели гибли в масштабах, несравнимых с репрессиями в других видах искусства: перо писателя приравнивали к штыку врага. Иосиф Виссарионович зорко следил за литературным процессом в СССР и лично принимал близкое участие в судьбе многих советских писателей. Всем известны его звонки Пастернаку и Булгакову. Даже в «вегетарианские» годы «оттепели» и застоя партия и правительство держали писателей на коротком поводке. Достаточно вспомнить травлю Пастернака в 1958 году; яростную атаку Хрущева на Эренбурга и молодую поросль писателей новой волны – Аксенова, Вознесенского и Евтушенко – во время встречи советских руководителей с представителями творческой интеллигенции 7 и 8 марта 1963 года; процесс Бродского в 1964 году; длительные лагерные сроки Синявскому и Даниэлю в 1966 году (7 и 5 лет соответственно) за публикацию произведений за рубежом; и, наконец, выдавливание неугодных писателей из страны в 1970-е (Бродский, Солженицын, Галич, Войнович, Аксенов и др.).
В чем же все они были повинны? Некоторые были диссидентами и открыто критиковали режим (Солженицын, Войнович), другие просто отказывались быть конформистами и публично выказывать любовь и лояльность партийной диктатуре (Аксенов[149], Бродский), но были ведь и те, кто умудрялся существовать и творить в режиме «между капельками» – Евтушенко и Вознесенский. Однако даже они попали под каток партийного гнева в 1963 году. А объединяла их одна черта: все (кроме Бродского)[150] «засветились» за границей. На встрече 1963 года Ванда Василевская «настучала» на Вознесенского и Аксенова именно в связи с их публикациями и выступлениями за границей, в которых они высказывали тревогу по поводу тенденций к возрождению сталинизма в Советском Союзе[151]. Синявского и Даниэля, издававшихся на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, наказали так сурово исключительно за эти публикации. Никакой диссидентской деятельностью в своей стране они не занимались. Синявский был известен как серьезный, официально признанный литературовед, издавший книгу о Маяковском и написавший большую вступительную статью к сборнику стихов Пастернака в Большой серии «Библиотеки поэта» (сборник вышел буквально за пару месяцев до ареста писателя осенью 1965 года). Даниэль вообще был никому не известным учителем литературы в средней школе. Все вышеперечисленные писатели пострадали за то, что пренебрегли народной мудростью: не выносить сор из избы. В любой культуре люди пытаются спрятать от соседей какой-то нелицеприятный «мусор». В английском языке, например, существует выражение «замести [мусор] под ковер» (to sweep under the rug). Разница заключается в том, что в других культурах такая «маскировка» является продуктом чувства стыда индивидуального сознания; в Советском же Союзе демонстрация национального «мусора» за рубежом стала делом государственной безопасности. Вера в магическую силу вербального выражения, отождествление слова и дела (выражения и содержания) и подвигали правительство на суетливую борьбу с оппозиционным словом – борьбу, сходную по своей природе с борьбой раскольников в XVII веке против нововведений в православный обряд. Как в XVII веке эти нововведения ничего не меняли в самой доктрине и староверы напрасно шли на заклание, так и в хрущевско-брежневские времена диссидентская деятельность интеллигенции вряд ли могла расшатать советский режим, даже если их пустили бы в свободное плаванье[152]. Но вера в магическую природу знаков и символов была сильнее любого здравого смысла.
Не выметать сор из литературной избы
Хочу привести два примера из советской литературной жизни хрущевско-брежневского периода, которые, надеюсь, убедительно продемонстрируют, что в действиях советской цензуры не было ни логики, ни смысла, но было лишь суеверное желание не позволить вымести «сор» из литературной избы, любой ценой сохранить видимость идеологической лояльности всего населения Коммунистической партии и идеям социализма.
Борис Пастернак – Юрий ТрифоновВ 1958 году после присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку[153] началась всенародная травля писателя, инспирированная высокопоставленными советскими идеологами и с энтузиазмом подхваченная «шавками» из Союза писателей и «всем советским народом».
Учитывая тенденцию Нобелевского комитета принимать во внимание идеологические факторы при выборе очередного призера, можно с уверенностью утверждать, что премия Пастернаку была присуждена за «антисоветский роман» «Доктор Живаго», хотя книга эта не была ни антисоветской, ни, строго говоря, романом. «„Доктор Живаго“ – это не политический роман, а скорее лиро-философское произведение – „особый вариант книги Бытия“»[154]. Пастернак был несколько раз номинирован на Нобелевскую премию в предыдущие годы как выдающийся поэт, но премия была присуждена только по выходе «Доктора Живаго» на Западе и обретении им мгновенной мировой славы как антисоветского произведения. Пастернак завершил работу над этой книгой в 1955 году и в 1956-м представил ее для публикации в советские литературные журналы и издательства. На дворе стояла «оттепель», только что прошел ХХ съезд, закончившийся знаменитой «секретной» речью Хрущева о репрессиях и культе личности Сталина, поэтому Пастернак мог надеяться на издание своей книги. Рукопись, однако, была отклонена по идеологическим соображениям, но, несмотря на критику, никаких серьезных последствий для автора не последовало. Пастернак, который считал это произведение вершиной своего творчества и страстно желал увидеть его напечатанным, передал рукопись итальянскому издателю и члену Итальянской компартии Джанджакомо Фельтринелли. Автор не скрывал факта передачи рукописи; узнав об этом, советское руководство потребовало, чтобы он отозвал рукопись у издателя. Официально Пастернак подчинился и послал соответствующую телеграмму, но тайно дал знать Фельтринелли, что желает опубликовать книгу. В 1957 году «Доктор Живаго» вышел в издательстве Фельтринелли в переводе на итальянский и был переведен на другие языки. И опять на родине автор подвергся критике, но настоящий «шабаш» начался только после присуждения ему Нобелевской премии в октябре 1958 года. Пастернака исключили из Союза писателей, что означало «исключение» из литературы вообще; он был вынужден отказаться от премии и обратиться к правительству с унизительной просьбой не высылать его из Советского Союза. Вполне возможно, что всесоюзная кампания травли и остракизма, предательство бывших коллег и друзей-писателей, ускорили кончину Бориса Пастернака через полтора года после присуждения премии.
«Доктор Живаго» охватывает период с 1903 по 1929 год. В эпилоге мы встречаемся с некоторыми персонажами на фронте в 1943 году; а в последней главке эпилога и всей книги действие, вероятнее всего, происходит летом 1953 года, сразу же после смерти Сталина[155]. Книга заканчивается «воскресением» России, когда, наконец, «свобода души пришла», и «воскресением» Юрия Живаго, воплотившимся в тетради его писаний. Хотя книга описывает революции и войны, случившиеся в России в ХХ веке, ничего антисоветского в ней нет. «Доктор Живаго» – произведение не эпическое, а, как уже говорилось, лиро-философское, в котором жизнь вообще, жизнь (история) России и жизнь Юрия Живаго символически изображаются по образу жизни Христа: рождество, жизнь и деяния (цветение), смерть и воскресение. На материале «Доктора Живаго» нельзя сделать каких-то обобщений о деятельности большевиков во время революции и Гражданской войны. Антигерой Стрельников не представлен как типичный большевик; он единичный персонаж, имеющий сложную философскую функцию. В философской плоскости книги этот персонаж является символом смерти, антиподом Юрия Живаго – символа жизни, в котором без труда просматривается аналогия с Христом. Пастернак создает здесь антропоморфное воплощение своих философских представлений о жизни, а не эпическое произведение, описывающее события в России первой трети XX века.
Произведение сложное, требующее глубокого прочтения и интерпретации, но ни на родине писателя, ни за рубежом интерпретация никого не интересовала. Книгу выхолостили и свели к политической составляющей[156]. Начало было положено Нобелевским комитетом, западная пресса подхватила, а потом уж советское руководство, для которого западное мнение было страшнее атомной бомбы, запаниковало и обрушило на писателя все возможные кары, раздавив его исключительно из-за своего собственного убеждения, что если ТАМ думают о нас плохо, то что ж, товарищи, получается: значит, так оно и есть? Ведь им пасть не заткнешь. Ну как тут не вспомнить бессмертного Гоголя, который будто бы провидел, что случится с его собратом по перу через сто лет.
Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут из всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше – хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слушать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ[157].
Да, заткнуть пасть «иностранцам» не получается, но можно создать альтернативную реальность, сконструировав сюжет с писателем-клеветником в главной роли. Поэтому обвинение писателя в создании антисоветского романа еще раз подтверждает, что мнения западных апологетов о книге Пастернака (выражение) воспринимались советскими критиками как реальность (содержание). Несомненно, конечно, что злобная травля писателя членами Союза писателей вызывалась также и завистью.
А двадцать лет спустя, после того как «оттепель» завершилась прохладным и очень коротким «летом» в самом начале 1960-х, после того как стало солидно подмораживать в разгар брежневского застоя и ужесточения цензуры, другой советский писатель, Юрий Трифонов, напечатал несколько повестей, в которых обращался к теме моральной ответственности советского человека – в быту, в атмосфере идеологического давления и лицемерия. В 1976-м в журнале «Дружба народов» была опубликована его повесть «Дом на набережной», описывающая атмосферу тотального страха при сталинизме, а в 1979-м издательство «Советский писатель» издало роман «Старик», рассказывающий о зверствах большевиков во время революции и Гражданской войны.
Главная мысль во всех последних произведениях Трифонова заключалась в том, что человек несет ответственность за свои действия всегда, независимо от того, в какое время и при каких обстоятельствах он живет.
В отличие от «Доктора Живаго» роман Трифонова «Старик» представляет собой эпическое полотно, изображающее злодеяния большевиков на Дону. Взятие и расстрелы заложников, репрессии вплоть до расстрелов своих же командиров, если те выражали несогласие с неслыханным насилием по отношению к населению, изъятие последних запасов хлеба у крестьян, «расказачивание», то есть конфискация оружия и лошадей у казаков, воюющих на стороне красных, – вот лишь краткий реестр «подвигов» революционеров. Бессмысленность этих изуверств проявляется в том, что часто соответствующие декреты и приказы из центра, вначале категорические и не терпящие никаких обсуждений, через какое-то время отменялись и самих их исполнителей расстреливали. Такие большевики, как Шигонцев, Бычин и Браславский сводят личные счеты за несправедливости и страдания, которые они претерпели в прошлом, и потому эти люди особенно безжалостны. Они совершают свои преступления не в борьбе с реальным врагом, а из чувства мести.