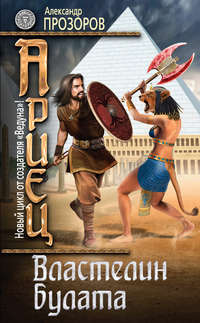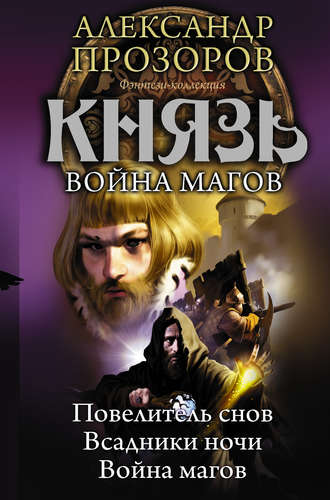
Полная версия
Князь. Война магов (сборник)
Потом его опять отшвырнуло – но он снова поднялся, сжал и разжал пальцы. Теперь руки были пусты. Из-за черно чадящего танка появились на задних лапах бледнолицые крысы, вскинули винтовки. На кончиках стволов мигнули светодиоды…
– Ты вернулся, чадо?
Андрей помолчал, сел на алтаре, поднес к лицу ладони. Открыл их, стиснул пальцы, снова разжал. В слабом свете костра они оставались чистыми и пустыми. Он повел плечами. Нет, ничего не болело. Ноги и руки слушались, голова оставалась ясной и спокойной. Он нашарил на траве одежду, начал облачаться.
– Ты чего молчишь, отрок? – забеспокоился колдун. – Здоров ли ты, цел?
– Не делай этого больше, волхв, хорошо?
– Чего «не делай», дитятко мое?
– Не отрывай души от тела, Лютобор. Мне не нравятся такие путешествия. Они все равно ничем не заканчиваются. То есть заканчиваются. Всегда одинаково заканчиваются. Я не попадаю домой, колдун. Я получаю поцелуй жестокой Мары, повелительницы смерти. Ты знаешь, мне совсем не нравятся ласки этой богини.
– Разве кто заставляет тебя отправляться в эти путешествия? Доколе ты станешь верить, будто никто не разгадает твоей тайны? Мне приятно слушать твои побасенки о великом будущем России, но истину открывает лишь зеркало Велеса. Осталась всего четверть века, и моя отчизна сгинет в крови и безвременье.
– Да, я помню, помню, – отмахнулся Зверев. – Через три десятилетия без малого, когда Османская империя покорит всю Европу, она посадит на трон извечно покорной сатанизму Польши кровавого упыря и вместе с ним нападет на Россию. С востока двинется Казанское ханство, и под ударами с трех сторон вечная Русь падет. От нее уцелеют только несколько мелких княжеств на севере, вокруг Архангельска… Пардон, вокруг Холмогор. Архангельска, пожалуй, при таком раскладе возле старого города пристраивать не станут. Но что бы ты ни говорил, мудрый волхв, примерно в половине случаев после твоего колдовства я попадаю во времена, близкие к своим. Пару раз почти точно к себе – но меня выбросило обратно. В позапрошлый раз – лет на десять позднее. В этот – на шестьдесят лет раньше, в Великую Отечественную. Правда, оба раза меня быстро убили. Буду дома – обязательно узнаю, что там с моим полком, моей дивизией случилось[8].
– Боги излишне милостивы к тебе, отрок. Ты просишь – и они пытаются дать то, чего ты желаешь. Но ты просишь невозможного, ты желаешь проникнуть в мир, которого не существует. Они создают для тебя что-то похожее, но даже боги не в силах овеществлять целый мир или хотя бы часть его вечно. Когда их силы иссякают, ты возвращаешься назад. Зеркало Велеса никогда не ошибается. Оно предсказало гибель Руси через тридцать лет – а значит, корень Сварогов действительно сгинет, а память его старательно истребят новые, дикие племена.
– Ну положим, турки пока еще далеки от завоевания Европы и топчутся вокруг Вены и перед Венецией. А царь Иван, гибель которого от руки убийцы ты предсказал еще три года назад, жив до сих пор.
– Судьбу невозможно обмануть, чадо мое. Дважды ты спасал его от неминуемой кончины. Но послезавтра поутру он съест смертельную отраву, подложенную предателем, и покинет наш мир, не оставив наследника. Трон перейдет к брату его, Владимиру Старицкому, а вместе с этим на растерзание ляхам и волхвам стран заката будут отданы Новагород и Псков, что зело ослабит землю нашу и сделает братьев по крови врагами нашими в войне будущей против Руси. Вольности немалые он боярам и князьям пожалует – и вольные слуги его в час будущей опасности откажутся под знамена московские вставать, за Отчизну общую животы класть. Свободой полученной зело дорожить станут. И биты будут они все, истреблены поодиночке.
– Да, я помню… – пробормотал Андрей. – Вольности шляхты, польский вариант. Для любой страны – путь в могилу. Но царя… Проклятие, я и забыл, что узнал в Новгороде про новый заговор! Они же сговорились с Белургом, некромантом из моего могильника. Ведь у них еще ничего не готово! Я был, я видел, я знаю… Проклятие, не начнут же они переворот без князя Старицкого! А он еще в Новгороде.
– Уже нет. Видать, спугнул ты колдуна и присных его, спугнул. Вот и заторопилась нежить, дела прочие отложила.
– О Господи, – схватился за голову Зверев. – Точно! Белург догадался, что я слежу за князем. Я у мальчишки при встрече жира чуток с носа соскоблил, вот он и догадался. Тоже ведь в магии сечет неплохо. Они даже убийц ко мне подослали, но мы с Пахомом отбились.
– Больше не подошлют… – Лютобор провел рукой над костерком, и тот погас, словно символизируя падающий на русскую землю мрак безвременья. – Кому ты откроешь секрет Владимира Старицкого, коли он днями сядет на стол московский? За сию тайну покарают уж тебя, а не его. Беги, дитя. Беги на север, строй твердыни могучие на своих рубежах, учи холопов и смердов делу ратному, сманивай людей русских, кто в весях своих чем-то недоволен. Может статься, тогда и уцелеет род твой в годину страшную, не станут османы класть животы тысячами ради клочка земли малого. Сам спасешься и слуг своих спасешь. Времени у тебя осталось мало. Совсем мало. Четверть века всего. Для рода Сварогова – последний миг.
Царский друг
Думы князя слишком долго были обращены лишь к сыну, чтобы он вспомнил о заговоре, попытался его предотвратить. Да и смог бы? Похоже, пока он плыл на север, дабы похвастаться перед новгородским ремесленником своей пилорамой, на подворье Старицких уже седлали лошадей, чтобы спешить в столицу. А приказ о злодействе, вестимо, мчался в Москву с ямской почтой, на перекладных, за государев счет.
– Впереди еще целый день… Может, успеем, Лютобор? Если не заговорщиков остановить, то хотя бы царя предупредить, от смерти спасти.
– Я согласен, чадо. Делай. Делай все, что можешь, что считаешь нужным…
Даже в темноте на губах колдуна ощутилась снисходительная улыбка. Вот, мол, она, юношеская горячность, стремление перевернуть мир. Много лет пройдет, прежде чем желающий получить все и сразу мальчишка обретет мудрость мириться с неизбежностью. Что, что мог поделать Андрей со своим обжигающим душу знанием? Отбить телеграмму, позвонить по телефону, послать письмо через Интернет? До Москвы пятьсот километров. На перекладных ямской почты – не меньше трех дней стремительной скачки. С заводными – втрое дольше. Просто верхом – еще вдвое. За сутки весть могла бы долететь до Кремля с голубиной почтой. Но для этого голубя нужно сперва вырастить, а потом взять из родного гнезда с собой.
Сутки… В его распоряжении были всего сутки с сегодняшней полуночи и до послезавтрашнего рассвета. Увы, в этом мире не существовало силы, способной так быстро перебросить невесомую кроху информации от предместья Великих Лук к царскому дворцу.
– Ты можешь перенести меня в Москву, Лютобор? – с надеждой спросил Андрей.
– Конечно, – признал колдун. – Для этого потребны ведьмина мазь, ивовый пук и полнолуние. Сделать мазь и связать прутья можно довольно быстро. А вот полнолуния придется подождать.
– Проклятие! – отвернулся от него Андрей и опять заметил в ночной мгле желтые прямоугольники затянутых пузырем окон. Князь вздохнул: – Я не хочу идти в усадьбу, волхв. Ты приютишь меня на ближайший месяц?
– Я готов принять тебя навечно, коли уж тебя не тянет к родному порогу, чадо мое. За оставшиеся годы ты переймешь все мои знания, постигнешь тайну вечной жизни, а когда погибнет Русь и я уйду в царство жестокосердной Мары, ты займешь мое место, чтобы творить привороты девицам, заговаривать зубы малышам, снимать проклятия с мужей и рассказывать детям о том, как красиво и богато когда-то жил на этой земле русский народ. Пойдем, чадо. Произноси заговор на кошачий глаз и пойдем.
В пещере Лютобор вновь уступил свое место в ароматной лиственной постели юному ученику. Сам же он остался толочь корень ревеня, который, замешанный в медовые шарики, прекрасно помогает при малокровии и чахотке.
Испытанные накануне переживания не лишили молодого человека сна. Он пробудился, когда солнце поднялось уже довольно высоко, напоил лошадей, тщательно вычистил их скребком, расчесал гривы. Простая работа успокаивала, отвлекала от грустных мыслей про умирающих детей и государей, про нависшую над святой землею черную тучу. Как там гласит древняя китайская молитва? «Боги, одарите меня силой, чтобы изменить то, что я хочу изменить, одарите меня терпением, чтобы снести то, чего я изменить не в силах, и одарите меня мудростью, чтобы отличить одно от другого». Зверев смирился. Похоже, общение с ученым старцем все же привило ему чуточку разумности.
Отправив скакунов пастись, он вернулся к чародею, и они вместе пообедали томленными в сметане, почти бескостными золотыми карасиками, запив их ржаным пенистым квасом. Однако не успел еще опустеть скромный стол пещерного отшельника, как черный ворон, сонно нахохлившийся наверху, на краю похожей на ласточкино гнездо норы, вдруг раздраженно каркнул, свалился вниз, но напротив входа расправил крылья – и скользнул в щель над закрывающими вход пологами. Лютобор, не переставая прихлебывать из кружки темно-коричневый напиток, закрыл глаза, фыркнул:
– Опять гость незваный, незнакомый появился. В броне кованой, с оружием странным, неведомым. На берегу Удрая стоит, сюда смотрит. Одвуконь. Сейчас реку переходить станет.
– С оружием? – Андрей поднялся, нашел взглядом ремень с саблей и ножами, быстро опоясался, проверил, на месте ли кистень. – Коли с оружием – значит, моя очередь пришла умением хвастаться. Давно я что-то голов глупых не рубил. Скоро вернусь.
Коли умеючи, то скакуна оседлать всего минут пять нужно: узду в зубы, потник ровно расстелить, седло накинуть да подпруги затянуть. Застоявшаяся кобылка сама перешла на рысь и вскоре вынесла всадника на тропинку за шиповником.
Князь натянул поводья:
– Пахом? Ты-то тут откуда?
– Ты сказывал, княже, без брони и бердыша нам из дома более выходить нельзя. Так я привез, – кивнул на заводную лошадку холоп. Там, прицепленный за ремень к луке седла, покачивался полутораметровый стальной полумесяц. Прочее добро, видимо, покоилось в сумках.
– Откуда узнал, что я здесь?
– Догадался, Андрей Васильевич. Мне ли не знать? С колыбельки ты на руках моих. Каждое слово твое, каждый шаг твой до сего дня я видел, слышал, помню. Куда еще ты ринуться после горя такого мог? Кто в монастырь от мирских сует запирается, кто вином боль до темноты в глазах заливает, кто в сечах смерти ищет. Сечи для тебя ныне нет, вину душу продать ты не можешь, не так глуп. Молитвы Божьи тебя последние годы не греют. А вот чары колдовские излишне любы, про то лучше всех ведаю. Так где же мне тебя еще искать, сынок? Сгинул, как ветром буйным сдуло, ни словом никому не обмолвился. Эх, княже! Разве так можно?
– Какие вы все умные-разумные, – отвернул от него лицо Андрей. – Скажи, у тебя дети есть, Пахом? Что бы ты сделал, кабы твой ребенок по чужой дурости погиб?
– Ты для меня заместо сына, Андрей Васильевич. Кабы ты лег, встал бы я над телом твоим и бился, пока самого бы не зарубили. Ушел бы ты в келью – и я бы от мира отрешился. Но ты, вижу, чародейством погубить себя замыслил. Так я пришел, княже. Пусть моя душа рядом с твоей в гиену огненную уйдет бесам на потеху. Руки на себя наложишь – значит, и я рядом висеть стану.
– Мое мнение тебя, видимо, не интересует?
– Обидеть желаешь, князь? За свою боль весь мир наказать? Меня, смердов безвинных, отца с матерью? В родной край приехал, а к ним даже не завернул, княже. Ладно, баба неопытная дурой оказалась – но их-то в чем вина? Ты тоже сын, княже, и любят тебя не менее, нежели ты свое чадо боготворил. Почему же не поклонился им, не показался, слова доброго не сказал? Они ведь тебя не заспали. А про внука и узнать не успели вовсе.
– Как же, не знают. Неужто Полина отписать дядюшке своему не успела? Наверняка отписала. А он, конечно, и деда с бабушкой порадовал.
– Понятно, – кивнул Пахом. – Стало быть, ты их разом и внука, и сына задумал лишить? Так, княже? Рядом ведь имение, час ходу. Отчего же тебе матушку в тяжкий час не обнять, с отцом за стол рядом не сесть, не помолчать по-мужски? Тебе больно – но ты других-то пожалей. Поехали со мной, Андрей Васильевич. Родному порогу поклонишься, родителей обнимешь, в светелке детской ночь проведешь. Утро вечера мудренее. Утром о судьбе своей заново помыслишь. Сегодня же отцу с матерью радость малую подари. Тебе плохо, но ты все равно подари. Не оскудеет рука дающего, княже.
Ворон, примостившийся на ветке, каркнул, переступил с лапы на лапу, поднял крыло, пару раз что-то там клюнул. Потом тяжело вспорхнул и полетел над тропой к Большому Удраю.
– Это колдун, да? – свистящим шепотом спросил дядька.
– Почти, – кивнул Зверев. – Дорогу случайному путнику показывает. Тебе то есть. А я… Мне, пожалуй, заводных коней забрать нужно. Чего им тут торчать? В усадьбе пригодятся.
* * *Гости, как и положено, подъезжали к воротам медленно, чтобы не застать хозяев врасплох – но первым, кого увидел на крыльце Зверев, был маленький Илья, одетый в крохотную рубашонку, сапожки, черные шаровары и опоясанный ремнем – пусть пока и без оружия. Его держала на руках дворовая девка и помогала махать ладошкой:
– А кто это к нам приехал? Братик это старший к нам приехал, князь Андрей.
– Сынок, дорогой ты мой! – Боярин Лисьин встретил гостя прямо у ворот, похлопал по плечам, отступил. – Возмужал. Клянусь святым Георгием, возмужал! Не узнать. Настоящий князь!
Зверев улыбался, но никак не мог оторвать взгляд от мальчишки, улыбающегося в нянькиных руках. Мать осторожно сошла со ступеней, припала к его груди:
– Родный мой! Что же не пишешь, вестей никаких не передаешь? А у меня недавно сердце заныло вдруг. О тебе сразу вспомнила. А ты – вот он, приехал. Радость какая!
– Оленька моя опять на сносях, – гордо сообщил Василий Ярославович. – К Рождеству, может статься, еще братик у тебя появится. Оглянуться не успеешь, под рукой твоей братья младшие дружину боярскую в сечу поведут, бок о бок за землю стоять будете, стеною. Да что же я, оголодал ведь с дороги? А я тебя тут держу… Степан, ты где там ходишь? Опять спишь? Баню беги топи. Перекусить с дороги князь да попариться пожелает, пыль верстовую смыть.
Никаких поздравлений с первенцем, никаких намеков. Не знали родители про то, что ненадолго бабушкой и дедом стали. Совсем не подозревали.
– Испей с дороги сбитеня горячего, – подошла бабка Ефрасинья, прячущая седые волосы под цветастым ситцевым платком, протянула корец и добавила: – Наконец-то заехали.
Андрей пригубил пряного напитка, передал его Пахому и, поддавшись внезапному порыву, снова крепко обнял мать.
«Сколько же ей лет? – подумалось ему. – Если так же, как Полину, выдавали да сразу первенца родила… Скажем, в шестнадцать… То сейчас ей шестнадцать плюс его девятнадцать – тридцать пять. А через тридцать будет шестьдесят пять. Не так уж и много. До уничтожения Руси доживет. Дольше – нет. Поляки сюда придут, османы, а престарелые рабы не нужны никому. Зарежут, чтобы не мешалась, и все…».
В трапезной отец продолжал рассказывать о своих планах, не забывая подливать в кубок вина себе и сыну, подкладывать ему на и без того полную тарелку куски тушеной убоины, щуки на пару, вареных раков. Мать просто смотрела на него, ничего не говоря и ни к чему не прикасаясь. Пахом же, тоже потерявший аппетит, сидя за столом смотрел куда-то себе между колен и рассеянно крутил за ножку оловянный кубок.
– За Дубовым бором пал намедни случился, – откинувшись на спинку кресла, продолжал рассказывать боярин. – Помнишь, позапрошлой зимой медведя там зимой брали? Так я на опустевшие земли трех страдников посадил, а рядом с выселками велел церковь срубить. Монахи священника пришлют. Не своего, не из обители послушника, но обещались. Мыслю, вокруг храма деревня вырастет. Потянутся смерды. Место там хорошее, ровное, озерцо. Токмо распахивай. Мансура помнишь? Тоже на старости лет на землю попросился. Вдову из Лук Великих себе привез. Глядишь, скоро малыши появятся. О службе ратной им расскажет – и они в холопы попросятся, в чистом поле сабелькой играть…
«Через тридцать лет церковь сожгут. Османы, ляхи – все равно. Вера христианская и тем, и этим ненавистна, – щелкнуло в голове Зверева. – Мансур не доживет, не молод, а сыновья его за Русь животы положат. Но напрасно…»
Раньше он не осознавал с такой ясностью, что поместье бояр Лисьиных после победы Османской империи полностью попадет под турецкую пяту. И законы тут будут совсем, совсем другие…
– …Богатая деревня будет. И десяти лет не пройдет, дворов до двадцати расширится, – продолжал хвастаться Василий Ярославович. – Будет кому братьев твоих прокормить да для похода снарядить. Я ведь еще три деревни заложил…
«Братьям будет по тридцать. Взрослые витязи. Будут биться, сложат буйны головы. На север не побегут, не тот корень в боярах Лисьиных, чтобы от врага убегать. А вот жены их полной долей рабской доли хлебнут. К тридцати наверняка дети появятся. Значит, и малышам невольничий ошейник уготован. Покорность, голод, унижение…».
– Кстати, Варю помнишь, бортника Трощенка дочку?
В сердце князя коротко кольнуло давнишним чувством – но полыхнуть ничего не полыхнуло. Слишком давно это было, слишком много чего случилось с той поры.
«Молоденькая совсем. Доживет. Но не более – не оставят».
– Так она тоже сына о прошлом годе родила. Замужем ныне за Терентием, что Мошкарином прозвали. Ну что рыбу все время ловил. Я его еще при вершах поставил. Больно ловок с рыбным промыслом. Так я им на большом озере, еще дальше за Дубовым бором, надел отрезал. Подъемные дал хорошие, от оброка на три года освободил да в Луки на торг дозволил ездить. Он уже сейчас приподнялся изрядно. Скоро, может статься, и сам работников набирать начнет. Доволен изрядно. И Варвара, по виду, тоже. Второго ждет.
Намек боярина он понял. Варенька вроде от барчука понесла, и отец сделал так, чтобы и у нее жизнь стала безбедной, и ребенок рос не в нужде. Горевать про подаренные Андрею ласки не станет. Но Зверев сейчас понимал услышанное совсем иначе и ничего хорошего из этого понимания в его душе не появлялось.
Люди, люди, люди… Знакомые и не очень, близкие и далекие. Как бы ему ни хотелось – но он не мог спасти всех. Да и кабы мог – что: разорять, срывать с места, тащить в свое княжество? Как объяснить такую блажь, как сделать это, не вызвав ненависти? Кто поверит в кошмар, грядущий через тридцать лет? Да и сможет ли он дать защиту им там, в своем уделе? Новгород ведь достанется схизматикам, а Сакульское княжество – данник новгородский.
– Ныне, милостью Господа, так удачно складывается все, – перекрестился боярин, – что помыслили мы с Оленькой о будущем своем покойном. Ты, видим, на ноги встал твердо, братьям твоим имение оставляем не пустынное, без долгов и тяжб на коште хозяйском. Вот и помыслили: что, если достать нам схрон дедовский? Оснуем именем своим обитель монашескую, скит малый в честь Василия Глубокореченского и святой Ольги Первокрестительницы. У тракта Пуповского, аккурат у поворота к усадьбе нашей. Пока стены поднимутся, и братья твои подрастут. А как возмужают дети, лет через двадцать, вам нажитое передадим, а сами на покой удалимся, года в молитве доживать, в Божьем призрении[9]. Вы, мыслим, скит наш без внимания и помощи не оставите, милость на пропитание просить не заставите. И нашим душам спасение, и вам брюзжанием старческим тяготиться не придется. А буде внимание достойное от рода князей Сакульских и бояр Лисьиных, так и окрепнет обитель, сохранит в веках имена Василия и Ольги и корня нашего. За то нам с женой и после кончины…
– Пахом, седлай! – не выдержав, грохнул кулаком по столу Зверев. – Плевать на мудрость, седлай жеребцов самых быстрых, немедля!
Дядька подпрыгнул на месте, захлопал глазами.
– Ты чего, сынок? – не меньше холопа растерялся боярин. – Только приехали, часа не прошло.
– Мне сегодня вечером в Москве быть нужно, – поднялся из-за стола Андрей. – Любой ценой. В Новгороде неладно.
– Но до Москвы… – развел руками Василий Лисьин. – Смеркаться часа через четыре начнет… Невозможно…
– Плевать! – отрезал Зверев и оттолкнул скамью. – Кабы мы, отец, делали только то, что можем – от Руси давно и памяти бы не осталось. Делать нужно больше, чем способен. Тогда и жить не стыдно.
Пахом наконец-то усвоил приказ, кивнул, опрокинул в горло кубок и кинулся к двери.
– Триста верст… – покачал головой боярин.
– Надо! – твердо повторил князь, торопливо зажевал еще кусок мяса и быстрым шагом направился вслед за дядькой.
– Андрей, постой! – Василий Ярославович тоже поднялся. – Мать, ну чего смотришь? Пирогов, убоины, рыбку в дорогу собери, быстрее. Голодные ведь понесутся, знаю я его. Эх, где мои годы молодые? Замки на одних шестах брали. Иди, сынок, иди. Ты успеешь.
Снова боярин догнал их во дворе, когда Пахом уже перекинул через холку своего коня сумку с припасами, поднялся в стремя. Андрей поцеловал боярыню Ольгу Юрьевну, пальцем стер выкатившуюся на щеку женщины слезу.
– Не последний раз видимся, мама.
– Вот, держи, – поймал Зверева за руку Василий Ярославович, сунул кошель. – Почтовых возьми. Все быстрее. Ну, с Богом…
Боярин перекрестил сына и отступил. Зверев привычно взметнулся в седло и дал скакуну шпоры.
Чудо. Их могло спасти лишь чудо, и Андрей верил в него всей душой. Бог, если он есть, не мог отдать Россию в лапы завоевателей, не мог допустить крови и разрушений на древней святой земле. Но чуда не случилось. Когда всадники миновали еще только Великие Луки, на дорогу опустились холодные осенние сумерки, а почти загнанные кони начали то и дело сбиваться на шаг. Их можно было пришпорить, загнать но смерти – но Зверев понимал, что простой скачкой дела не решить. У лошадей нет крыльев, домчать его до Кремля они к рассвету не смогут. Он должен был найти другой способ попасть туда, к юному царю и предупредить об опасности.
Князь Сакульский свернул с тракта на залитую лунным светом поляну, спрыгнул с седла, пошел по влажной от росы траве, потирая виски.
– Пятьсот километров, пятьсот километров… Триста верст… Проклятие! Пять минут по баллистической кривой! Как же мне одолеть эти чертовы версты до московского рассвета? – Он остановился у белой, будто светящейся в сумерках, березки и несколько раз стукнулся о нее лбом.
– Ты чего, княже? – испугался Пахом.
– Отвяжись!! Я думаю, дядька, думаю! Ты лучше вон коней расседлай и костер разведи. Ночевать нам тут придется, неужто непонятно?
Холоп отступил, занялся делом, а Зверев закружил по поляне, тихо и непотребно ругаясь. Идеи, как обернуться до столицы, у него были – но еще более бредовые, нежели просто гнать коней, пока не рухнут. Докричаться до Москвы из прилукского леса он тоже не мог. Значит…
– Стоп! – замер ученик чародея. – А собственно, почему не могу? Могу. Вопрос, кого окликать? И услышат ли, поймут?
– Что сказываешь, Андрей Васильевич?
– Ничего, это я не тебе, – отмахнулся Зверев. – Четыре самых близких царских сподвижника перекинулись к заговорщикам. Только кто? Поди, угадай. С другой стороны, кроме Ивана Кошкина, при дворе все едино никого не знаю. Попался он в сети Белурга или устоял? Вот вопрос, разорви меня лягушки. Если Кошкин предал, кричать нужно царю. Если нет – лучше Кошкину. Он в Разбойном приказе дьяк, за безопасность во дворце отвечает.
– Что сказываешь, Андрей Васильевич? – опять отозвался холоп.
– Государь наш, говорю, мальчишка еще, девятнадцать лет от роду. Идеалист, на одних книжках вырос. Его хоть и предупреди – что сделает? Ну пост сам себе объявит, молиться за избавление от опасности начнет. Так отравить и просфору, и хлеб, и воду простую могут. Совсем без еды он тоже жить не станет, чем-то питаться надо. Сон – это сон, жизнь – это жизнь. Из-за сна никто морить себя сухой голодовкой не будет. Вот Кошкин – другое дело. Из черни выбрался, в любой миг назад скатиться может. Он, Пахом, что цепной пес. Ему только команду «Фас!» подай – вмиг любого разорвет. Возможных отравителей перешерстит, еду проверит, заговорщиков на дыбу вздернет. Если только к новгородцам не перекинулся… Но тут ничего не поделаешь, придется рискнуть. Ты мне постелил?
– Откушал бы перед сном, княже. Дома, я видел, и не ел ты вовсе.
– А кто тебе сказал, что я собираюсь спать? Орать я собираюсь, друже. И орать так громко, что ты и представить себе не можешь.
– Воля твоя, Андрей Васильевич, – отвернулся холоп. – А я поем. Мне уши заткнуть али как?
– Али как, – вытянулся на потнике возле костра Зверев. – Тебе этого крика все равно не услышать…
Фактический глава братчины «худородных» Иван Кошкин после спасения царя от покушения и венчания Иоанна на царство сделался дьяком Разбойного приказа. Сиречь – его руководителем. Сколько его помнил Зверев – боярин постоянно пиршествовал с друзьями до утра, а потом, окатившись ледяной водой, отправлялся на службу. Но то – при Андрее, при прочих братьях по пиву[10]. В первые месяцы бояре Шуйские, сторонники Старицких, буйные новгородцы, вполне могли попытаться силой убрать юного и никому из них не угодного государя, а потому полсотни вооруженных бояр, да еще с преданными холопами, Кошкину нужны были под рукой. Однако трон устоял, бояре – кто нехотя, кто с радостью – принесли клятву верности, московские полки признали новую власть, и насущная потребность в преданных сторонниках отпала. Опять же – пить каждый день без сна невозможно, тут никакого здоровья не хватит. Да и у бояр из братчины – у каждого свои дела, свои имения, поместья, государева служба по охране рубежей. Торчать в Москве вечно он не могут. Братчина обычно собиралась зимой, ближе к Рождеству, когда Юрьев день знаменовал окончание полевых работ и расчетов между крестьянами и помещиками, когда появлялось время отдохнуть, получить в казне жалованье за службу, продать в столице часть урожая или иного своего товара, а заодно – встретиться с друзьями, поговорить, сварить пивка, напиться тесной компанией до поросячьего визга, а через недельку-другую, с больной головой и хорошим настроением, отправиться восвояси, к прежним каждодневным хлопотам, к службе и весенним полевым работам. Сейчас – конец августа, самая страда на полях. Так что ни о какой братчине, ни о каком веселом разгуле речи быть не может. И сейчас, в темной полуночи, дьяк Разбойного приказа наверняка почивает после плотного ужина и фляги испанского вина, утонув в теплой мягкой перине.