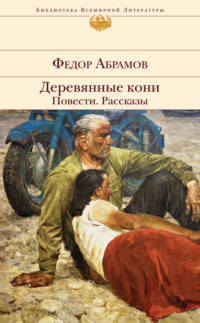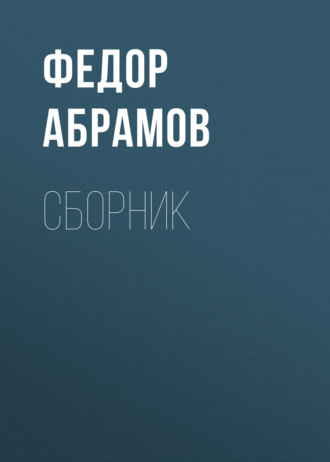
Полная версия
Ф. А. Абрамов. Сборник
Мать и Лизка прослезились. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами. А Татьянка и Федька, с остервенением вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули.
Слово «отец» им ничего не говорило.
4После чая Михаил разобрался с бритьем (он с прошлой осени начал скоблить подбородок носком косы), мать, прихватив растопку, пошла затоплять баню, а Лизка побежала к Ставровым.
Со Ставровыми Пряслины жили коммуной, считай, всю войну, чуть ли не с весны сорок второго года. Они держали на паях корову, сообща заготовляли сено, дрова, выручали друг дружку едой. Больше всего, конечно, от этой коммуны выигрывали Пряслины, но и Степан Андреянович не оставался внакладе. Анна и Лизка обстирывали и обмывали его с внуком, держали в чистоте их избу, и хлопот насчет бани Ставровы тоже не знали.
Ветер под вечер стих. Из белесых лохматых облаков проглянуло оловянное солнышко, и далеко, на пекашинских озимях, кричали журавли. Первый раз за нынешнюю весну, отметила про себя Лизка.
Она бойко вышагивала по унылой, твердой, как камень, дороге – ни одной еще травинки не было на лужайках – и мысленно видела себя в новых ботинках, в новом голубом платье с белыми горошинами. И вообще все, все теперь, казалось ей, будет иначе. Им не придется больше давиться колючим мохом, толочь в деревянной ступе сосновую заболонь, и по утрам не будут больше, мучаясь запорами, кричать с надворья ребята: «Ма-а-ма-а, умираю…» Какое это счастье, что у них такой брат!
Степан Андреянович затоплял печь. Красные отсветы играли на его бородатом лице.
Наверно, что-нибудь для Егорши варить собирается, догадалась Лизка.
– А, невеста пришла, – сказал с улыбкой Егорша. Он лежал на печи, голые ноги крест-накрест, в зубах самокрутка.
Лизка хмыкнула:
– Невеста без места, жених без штанов.
– А вот и в штанах, – рассмеялся Егорша.
– Хватит тебе зубанить-то, – одернул его Степан Андреянович.
Егорша придурковато высунул язык, но разговор переменил:
– Ну, что Мишка делает?
– Что делает! Он без Мишки-то часу прожить не может. Не ты – без дела не лежит. Я пришла сказать, – обратилась Лизка к Степану Андреяновичу, – баню-то не топите. Мы топим.
Она цепким, бабьим глазом обвела избу.
– Ну-ко, я хоть маленько приберу у вас.
– Брось, Лизавета, – сказал Степан Андреянович. – Сами с руками.
Но Лизка уже смачивала под рукомойником веник. Затем, подметя пол, она по-свойски прошла в чулан, вынесла оттуда грязное белье старика, бросила на пол:
– У тебя есть чего?
Егорша скосил прищуренный глаз на деревянный сундучок, стоявший у кровати.
– Вон мой чемодан. Доверяю.
В задосках загремела кочерга.
– Мог бы и сам достать. Рановато барина-то из себя показывать.
Егорша нехотя спустился с печи – босиком, в белой нательной, давно не стиранной рубахе с расстегнутым воротом и выпущенным подолом, – зевнул, потягиваясь.
– Лежать-то тоже надо умеючи. – И подмигнул Лизке: – Одна баба лежала-лежала – ногу отлежала. На инвалидность перевели.
Был Егорша невысок, худощав и гибок, как кошка. Смала Егорша очень походил на робкую, застенчивую девчушку. Бывало, взрослые начнут зубанить – жаром нальются уши, вот-вот, думаешь, огонь перебросится на волосы – мягкие, трепаные, как ворох ячменной соломы. Но за три года житья в лесу Егорша образовался. Стыда никакого – сам первый похабник стал. Глаз синий в щелку, голову набок, и лучше с ним не связывайся – кого угодно в краску вгонит.
К деду Егорша переехал в сорок втором году, после того как мать задавило деревом на лесозаготовках. Степан Андреянович завел было разговор о перемене фамилии, но Егорша заупрямился. Тем не менее в Пекашине все и в глаза и за глаза называли его Ставровым. И тогда Егорша схитрил: к отцовской фамилии Суханов стал приписывать фамилию деда.
– Со мной, брат, не шути, – говорил он, довольный своей выдумкой. – У меня, как у барона, двойная фамилия.
Легкой, развинченной походкой Егорша прошел в задоски, зачерпнул ковшом воды из ушата, напился.
– По последней науке, говорят, ведро воды заменяет сто грамм.
– Чудо горохово! Всё про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял.
– Так, так его, – поддержал Лизку Степан Андреянович.
Егорша вынул из сундучка скомканное белье, навел на Лизку свой синий глаз с подмигом:
– На, стирай лучше. Когда-нибудь из сухаря выведу[33].
– Больно-то мне надо!
– Ну, ну, не зарекайся. В клуб-то нынче ходят?
Степан Андреянович, сливая в чугун воду, покачал головой:
– У нашего Егора одно на уме – клуб.
– А чего! Война кончилась – законное дело. Кто теперь играет? Раечка?
– Она когда в балалайку побренчит, – сказала Лизка и вдруг рассердилась: – Да ты думаешь, у нас тут только плясы и на уме?
Егорша опять зевнул.
– Я не про тебя. Я про девок.
Слыхала, слыхала она от этого злыдня кое-что и похлестче – за словом Егорша в карман не лез. Но нынешняя насмешка показалась ей почему-то столь обидной, что она схватила узел с бельем и, даже не попрощавшись со Степаном Андреяновичем, хлопнула дверью.
5Дома шла стрижка – обычное дело в день приезда старшего брата.
Двойнята уже расстались со своей волосней и, покручивая непривычно легкими головами, влюбленно следили за рукой Михаила, лязгающей черными овечьими ножницами над Федькиной головой.
Федьке приходилось туго: ухо у него против света горело, как жирная волнуха, и по веснушчатым щекам текли слезы. Но он крепился и на вошедшую в избу сестру даже не взглянул.
– Что Егорша делает? – спросил Мишка.
Лизка всплеснула руками:
– Да вы что – сговорились? Тот: «Что Мишка делает?» Этот: «Что Егорша делает?»
Она взяла под порогом веник, запахала в кучу ребячьи волосы.
– Ты ничего не слыхал?
– Нет. А что?
– Старовер приехал.
– Какой старовер?
– Много ли у нас староверов? Евсей Мошкин. В поле сейчас стоит, у своей избы. Сегодня, сказывают, приехал. До Лиственничного бора на «Курьере» шел, а оттуда пешком. Не захотел дожидаться, покуда пароход дрова возьмет.
За этим многоречивым плетением Михаилу почудилась та же самая тревога, которая холодком подползла и к его сердцу. Прошлой осенью, когда в спешке ставили им избу, бревна собирали по всей деревне и три венца взяли с развалин Евсея Мошкина. Конечно, с согласия правления колхоза.
– Сиди! – зло тряхнул Михаил заворочавшегося Федьку.
Наскоро оборвав остатки волос на рыжей голове, он накинул на себя ватник, вышел на улицу.
На задворках, в поле, там, где стояла изба Евсея Мошкина, никого уже не было.
Михаил взял колун с крыльца и пошел в дровяник. Он всегда так делал, когда хотел что-то обдумать. Правда, в данном-то случае и обдумывать было нечего. Бревна с Евсеевой избы подсказала снять Анфиса Петровна, так что пускай она и рассчитывается с Евсеем.
Да, но бабам-то рот не заткнешь, подумал Михаил. Начнут теперь вздыхать да охать. Вот, скажут, какие нынче люди пошли. Подошел Евсеюшка к своему домику, а там не то что избы – бревнышка ладного нету. И что ты возразишь? Что скажешь на это? Пускай ты хоть век не виноват, а бревна-то на твоей избе. Каждому прохожему видно.
Михаил сплеча всадил в суковатую чурку колун, затем старательно, на все пуговицы, застегнул ватник и пошел к Марфе Репишной, дальней родственнице Евсея.
У Марфы Репишной Пряслины каждую зиму, начиная еще с довоенного времени, морозили тараканов, и Михаил хорошо знал ее избу. Старинная изба. Оконышки маленькие, высоко над землей, а потолок и стены из гладко оструганного кругляша – золотом светятся. И дух в избе вкусный, травяной. Особенно бросается, когда в холодное время с надворья заходишь: будто из зимы в лето попадаешь.
На этот раз травяной запах заглушала смола: Евсей щепал лучину.
Ловко, красиво сбегал с полена тонкий розовато-белый ремень. Как живой, чуть-чуть потрескивая и мягко выгибаясь. А когда этот ремень совсем отделился от полена, Евсей не дал ему упасть на пол, а быстро подхватил его и покачал на весу: а ну-ка, скажи, друг-приятель, на что ты пригоден (знакомая Михаилу привычка), и бросил отдельно, в сторону от растопки, – надо полагать, для дела.
Сам Евсей, к немалому удивлению Михаила, оказался совсем не таким, как представлял он его себе, шагая к Марфе. Он-то думал увидеть какого-нибудь доходягу, тень от человека, раз столько в лагерях отбухал, а тут – держите ноги: пень смоляной. Щеки румяные, гладкие, как мячики, в рыжей окладной бороде ни единой пожухлой волосины, и голова тоже медная, в скобку стрижена, подрубом.
Потом, правда, Михаил разглядел: старик. И рука правая в трясучке, и кожа на шее сзади потрескалась, как кора на старом дереве. Но все равно впечатление засмолевшего, забуревшего пня, с которого, как вода, стекают и время, и всякие житейские невзгоды, осталось.
– Чей это молодец-то будет? – спросил Евсей у Марфы.
Марфа подняла голову от рубахи, которую чинила, поглядела на Михаила своими полубезумными глазами и ничего не сказала. У нее, как казалось Михаилу, и раньше кое-каких винтиков недоставало, а после смерти мужа она и совсем ослабла головой.
Михаил назвал себя.
– Ивана Пряслина сын! – воскликнул Евсей. Он вскочил на ноги, всплакнул, замотал головой. – Осподи, Ивана Гавриловича сын… Михайло Иванович – так, кабыть? Вот как, вот как время-то идет, робятушки! Давно ли Иван Гаврилович сам молодцевал, а тут такой сын. В отца, кабыть, натурой-то, только тот волосом посветлей был. – Евсей опять, поокав, повздыхав, сел на лавку. – А меня-то помнишь? – спросил он, и вдруг в мокрых щелках его вспыхнули любопытные, по-ребячьи лукавые огоньки.
Михаил отрицательно покачал головой.
Огоньки потухли.
– Где помнить. А я вот тебя запомнил. Бывало, все к моим ребятам бегал. Вот такой махонькой, – Евсей показал рукой.
Михаилу смутно припомнились двое мальчуганов-сирот, живших когда-то неподалеку от них на задворках. Старшего, кажется, звали Ганькой, а у младшего – это он хорошо помнит – было прозвище Тяпа. Ребятишки бедному Тяпе из-за того, что у него была большая белая голова да кривые, как ухваты, ноги, не давали житья. И Михаил тоже травил его: «Тяпа, Тяпа, не упади!..»
А Тяпа не отвечал. Тяпа, казалось, не замечал этих обидных выкриков. И все катился да катился себе мимо, как колобок. И, как колобок, улыбался своей светлой, кроткой улыбкой.
– Нету, ни которого нету в живых. Оба убиты – и Гаврило, и Алексей, – вздохнул Евсей. – И у тебя родитель, сказывают, остался там?
– Остался.
– О, господи, господи! Сколько народушку побито. Весь цвет в войне выгорел. А семья-то у вас большая?
– Шестеро, кроме меня.
– Ох, Михайлушко, Михайлушко! Ну дак тебе досталось. Взвалила война на твои плечи ношу…
Михаил встал.
– Я насчет бревен зашел сказать. Это я увез их с твоей избы.
Евсей махнул рукой:
– Что ты, бог с тобой, Иванович. Не ты начал рушить мое строенье, не ты кончил. Сеструха[34] Марфа Павловна пригрела меня, и слава богу.
– В общем, так, – сказал Михаил. – Мне чужого не надо. Нарублю и отдам.
– Нету чужих, Михайлушко. Все люди родня. А мы с тобой еще родники по крови. Не слыхал? Так, так. Спроси у старых людей. Старые-то люди помнят. Мой-то отец да матерь твоего отца – бабушка тебе – троюродными братом да сестрой доводились. Отец у тебя помнил. Бывало, выпьет, дядей назовет. Ничего, шибкой был, а худого слова не скажу. Обходительный со мной был…
В избу вошла запыхавшаяся Лизка:
– Вот где он! Я по всей деревне ищу, а он как не знает, что баня поспела.
– Сестра тебе? – спросил Евсей. – Как звать-то?
– Лизаветой, – сказала Лизка и хмуро, почти враждебно посмотрела на Евсея.
– Так, так, – ласковой улыбкой ответил ей Евсей. – Лизавета Ивановна, значит. Характером-то, кабыть, в бабку Матрену Прокопьевну. Счастливая будешь.
Михаил с каким-то смутным и непонятно-тревожным чувством вышел на улицу.
Глава вторая
1Эх, жар-суховей, пар-береза на спине! В Пекашине любили попариться. Бывало, в субботу стукоток стоит за колодцами, у болота (там банный ряд): трещат, хлопают двери, раскаленные мужики да парни вылетают в белом облаке и бух-бух в снежный сумет или в озерину.
И в войну не забывали баню, в самые черные дни топили. А как же иначе, если это и твоя единственная отрада в жизни, и твоя оборона от всех болезней и хворостей?
Пряслинская баня была приметна не сама по себе – какие же особые приметы у черной бани? Она была приметна кустами – двумя черемшинами[35] и пятком тоненьких рябинок, росшими возле сенцев.
Летом – что и говорить – приятный дух от черемшинок, но если бы эти кусты не были посажены отцом, Михаил и дня бы не держал их у бани. Приманка для ребят – вот что такое эти кусты. Особенно черемуха. Весной и осенью каждый пацан лезет на нее, а раз пацан возле бани – не бывать стеклу в окошке. Это уж точно. И в окошке пряслинской бани вечно торчит веник.
– Алё? – подал голос Михаил, входя в сенцы. – Есть жар?
– Есть, наверно. Мне с этим жаром-паром не на луну лететь, – замысловато ответил из бани Егорша.
В бане из-за веника в оконце было темновато, и Егорша, растянувшийся на полку, напомнил березовый кряжик. Михаил против него был мужик. Кожей смуглый – в материн род, а всем остальным – и костью, и силой – в отца.
Горбясь под низким черным потолком, он дотронулся пальцем до каменки – хорошо накалена! – и зашуршал березовым веником.
Егорша панически приподнялся на полку:
– Ты что – опять будешь устраивать Африку?
– Да, надо немножко кровь разогнать. У меня что-то ухо правое ломит, надуло, наверно, на реке.
– Ну, тут наши пути-дороги расходятся, – сказал Егорша.
– А ты знаешь, кого я сейчас видел?
– Кого? – спросил Егорша, слезая с полка.
– Попа!
– Какой это, к хрену, поп! Дурак старый – вот кто.
– Да ты знаешь, о ком я?
– Знаю, – невозмутимо ответил Егорша.
Оказывается, Егорша еще раньше его, Михаила, видел Евсея Мошкина, ибо по дороге домой от реки он завернул в правление – узнать, как и что тут делается, в Пекашине, – и нос к носу столкнулся с этим так называемым попом.
– Почему с так называемым? – запальчиво возразил Михаил. – Я еще ребенком был, помню, его попом называли.
– По глупости.
– А за что же тогда его пятнадцать лет катали в лагерях, ежели он не поп?
– Потому что осел на двух копытах. Ему в сельсовете ясно было сказано: брось, говорят, Евсей, всю эту музыку. Не мути народ. Новую жизнь строим, и все протчее… А он, пень упрямый, свое. Ну и гуляй до лагерей. А чего еще с ним цацкаться, раз он русского языка не понимает?
– Хм… – сказал недоверчиво Михаил. – А откуда ты все знаешь? Ты ведь у нас в ту пору не жил.
– Чего знаю? Это что его в лагеря-то закатали из-за своей дурости? Да уж знаю… – Егорша поплескал в лицо водой из ушата и убежденно сказал: – Нет, это не поп. Такой же Ванек пекашинский, как все протчие. Только мозга еще больше набекрень. Нет, вот я был в прошлом году в Архангельске – это вот да, поп. Идет по улице, сарафан черный до пят – рясой называется. Я еще сперва подумал: баба. Нет, говорят, поп…
Михаил, приспосабливая к короткому полку свои длинные ноги, попросил.
– Плесни маленько.
Каменка загрохотала, как пушка. Сухой, каленый жар придавил Егоршу к полу.
– Между протчим, – заговорил он немного погодя снизу, – религия эта много денег на войну собирала.
– Подбрось еще ковшик! – оборвал его Михаил. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал говорить с ним вот этим поучающим тоном.
– Ну ты и зверь! Скоро, как мой дедко, в рукавицах хвостаться будешь.
– Давай, давай.
– Да мне-то что – жалко? Вода еще не по карточкам. – Егорша зачерпнул из ушата, отступил, пригибаясь, в сторону. – Господи благослови…
Когда немного спала жара, он ползком стал пробираться к дверям.
– Ну тебя к лешему! Я еще не грешник, чтобы в таком жару жариться. Пошел на водные процедуры. Идешь?
– Говорю, у меня простуда.
Михаил повернулся на бок, прошелся веником по спине, потом, упершись ногами в каленые потолочины, еще раз похлестал колени (с осени сорок второго года, с той самой поры, как он пошел в лес, поскрипывает у него в коленях) и наконец, совершенно обессиленный, выпустил из рук обтрепавшийся веник.
С улицы донесся женский визг, хохот – не иначе как Егорша на кого-то напоролся нагишом, – затем немного погодя за стеной у болота раздался всплеск воды – Егорша нырнул в озерину.
Михаил поспешно слез с полка, кинул жару.
– Ух, ух! – с суматошным криком ворвался в баню Егорша. – Вот теперь и нам подавай градусов.
Щелкая зубами, он с ходу вскочил на полок, замолотил ногами.
– Веник дать?
– Нет, нет, ну его к дьяволу! Не люблю.
– Ты чего это там разорялся? – спросил Михаил, устраиваясь для мытья на чурачок против оконца.
Егорша захохотал:
– Варвару шуганул. Я это выбежал из сенцев, а она воду черпает. Ну и ах, ох! Да… Вот товар залежался. Не знаю только, с какого боку подобраться.
– Че-го-о?
– Не знаю, говорю, какую тактику применить. Бабы, они как лошадь: у каждой свой норов.
– Дурак! Она на сколько тебя старше? Мы сосунки против ей.
– Ты баб не знаешь, – спокойно возразил Егорша. – А они, которые в годах, любят молоденьких. Уж это точно.
– Скажи какой знаток!
– Ладно. Ты про аппетит слыхал?
Михаил улыбнулся: сейчас Егорша расскажет какую-нибудь похабель – на всякий случай у него анекдот да притча.
– Так было дело. – Егорша поворачивается к нему лицом. – Баба одна аппетитом маялась. Ну, худо ела, понимаешь? Муж ей и то, и се, всяких там продуктов-пряников в лавке накупит – до войны дело было, – полный стол наставит. Ешь, жена, чего хочешь. Не ест. Как кобыла худая, морду от сена воротит. Ну что ты будешь делать! Вот так-то раз поутру, часов в восемь, угощает муж жену. И опять то же самое: опять не хочу, опять аппетита нету. А мужику за дровами ехать надо, лошадь в упряжке под окошком стоит. «Ладно, говорит, поеду, а ты, говорит, посиди подожди. Должен появиться аппетит». Ну, жена послушная, как наказал муж, так и сделала: сидит у стола, ждет, когда появится аппетит. А тут откуда ни возьмись – солдат, под окошком топает. Разудалый такой Ванюха-хват, с царской службы домой пробирается. Жена, ну эта самая Авдотья, увидала: «Слышь-ко, говорит, тебя, говорит, не Аппетитом зовут?» А солдату все едино – как ни назови. «Аппетитом». – «Дак я же, говорит, который день тебя жду. Заходи скорее…» Ну, после полудня возвращается муж с дровами. Рад-радехонек! На столе ни крошки, и жена веселая. «Что, говорит, был у тебя аппетит?» – «Был, говорит. Да такой хороший. Поезжай скорее по сено. Он на ночь обещался прийти…» – Под смех Михаила Егорша закончил: – Видишь, когда еще баба аппетитом маялась. До войны. При живом муже. Соображаешь теперь?
– Сукин ты сын! – сказал Михаил. – И завсегда у тебя какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи, как теперь жить будем.
– А что?
– Как что? Война кончилась, а дальше?
– Тю, нашел о чем горевать. Не беспокойся. Там, наверху, большие мужики газеты читают…
– Да я не про то. Как ты не понимаешь! Вот, к примеру, ты. Я бы на твоем месте учиться мотанул, честное слово.
– Мотай на здоровье. Нынче никому не запрещено.
– Болван! У меня сколько на шее? А у тебя один дедко, да и с того еще ты тянешь…
Егорша повернулся на спину, подложил под голову веник. Затем, помолчав, объявил:
– У меня задача покамест такая – добыть серп с молотом. А дальше поглядим, что и как.
– Чего-то я раньше не замечал, чтобы тебя к кузнице тянуло.
– И сейчас не тянет.
– Дак чего же?
– Мне надо такой серп и молот, – сказал Егорша, потягиваясь, – у которых крылышки. Чтобы подвесился к ним и полетел, куда захотел.
– А, ты вот о чем, – догадался Михаил. – Про паспорт. Не знаю. Сосны да ели и без паспорта нас признают.
– С колхозным леском покончено, – сказал Егорша.
– Это кто тебя отпустит?
В сенцах что-то брякнуло, вроде дужки от ведра, потом Лизкин голос:
– Есть ли жар-то?
Егорша живо приподнялся на полку, заорал:
– Лизка! Потри спину!
– Я те потру. Батогом суковатым. Подойдет?
Когда в сенцах все заглохло, Михаил рьяно, исподлобья поглядел на Егоршу, коротко бросил:
– Ты говори, да знай с кем.
– Ну еще, нельзя и пошутить.
Лизка снова вернулась в сенцы:
– Я из-за этого зубана забыла, зачем и пришла. Тебя Анфиса Петровна ждет. Срочно, говорит, Михаила надо. Так что больно-то не размывайся. В субботу вымоешься.
– Ну вот, – сказал Михаил и невесело усмехнулся. – Не успел одну грязь смыть – другая ждет.
– Да, – сказал Егорша, – колхозная жистянка известна: из одного хомута да в другой. Нет, я нынче поворачиваю на все сто восемьдесят. Баран и тот, понимаешь, башкой иногда крутит, а мы что… Царь природы…
2Приход председателя на дом, да еще в день приезда из лесу, ничего доброго не сулил – Михаил хорошо это знал по прошлому. Опять какое-нибудь пожарное дело: либо за сеном тащись с бабами на ночь глядя, либо – семенами у соседа разжились – мотай срочно за семенами…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Варница – оборудованное место для костра и приготовления пищи.
2
Заулок – проулок между домами.
3
Забереги – лед вдоль берега, начинающий таять.
4
Сиверок – уменьшительное от «сивер» – северный холодный ветер.
5
Купированных – оккупированных.
6
Отпышаться – отдышаться.
7
Опахаться (опахать, пахать) – подметать, мести.
8
Ворота – входные двери с улицы в избу.
9
Задоски – часть избы спереди печи, отгороженная дощатой заборкой (Примеч. автора).
10
Наволóк – прибрежный луг.
11
Пошевни – широкие сани, розвальни.
12
Пожня – сенокосный луг.
13
Летось – прошлым летом!
14
Поветь – верхняя часть над хозяйственным двором, сеновал, сенник.
15
Прясло – сооружение из жердей для сушки снопов.
16
В 1971 г. Автор набросал иной вариант начала главы: «Не думал, не думал Степан Андреянович, что на старости будет играть в детские игры – так ему казалось. А пришлось».
17
Сивериска – местное название чемерицы, многолетней травы симейства лилейных, с большим толстым корневищем и метелками цветов.
18
Оногдась – однажды.
19
Ляга – низина на лугу или за кустами.
20
Шаньга – выпечка из кислого теста, политая сметаной.
21
Рада – водянистое место на болоте.
22
Вехоть – ветхая тряпка.
23
На севере житом называли ячмень. (Примеч. авт.)
24
При доработке романа автор хотел углубить характеристику Марфы: «Надо шире. В этой русской бабе, покорной, сильной и т. д. Одним словом, охарактеризовать Россию».
25
На севере житом называют ячмень.
26
Слега – тонкое хвойное дерево, жердь.
27
Увал – крутой склон, крутой берег.
28
Дресва – мелкая-мелкая галька.
29
Очеп – жердь, на которую подвешивалась зыбка, люлька.
30
Вясло – жгут из соломы для вязки снопов.
31
Подклет – бревенчатая надстройка над погребом.
32
Осенщак – сено, поставленное осенью. (Примеч. авт.)