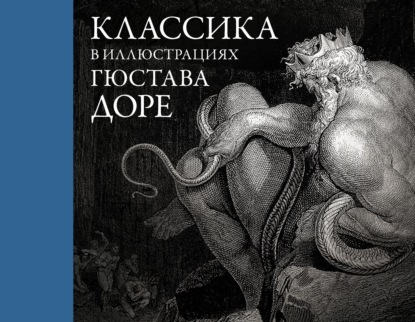Полная версия
Анна Каренина
Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.
– Это ужасно! Ужасно! – проговорил он.
В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.
Она, видимо, опоминалась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери.
«Ведь любит же она моего ребенка, – подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, –моего ребенка; как же она может ненавидеть меня»?
– Долли, еще одно слово, – проговорил он, идя за нею.
– Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей!
И она вышла, хлопнув дверью.
Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, – говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. – И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты.
Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводить часы», – и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко:образуется, – подумал он. – Это надо рассказать».
– Матвей! – крикнул он, – так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, – сказал он явившемуся Матвею.
– Слушаю-с.
Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо.
– Кушать дома не будете? – сказал провожавший Матвей.
– Как придется. Да вот возьми на расходы, – сказал он, подавая десять рублей из бумажника. – Довольно будет?
– Довольно ли, не довольно, видно, обойтись надо, – сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.
Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром?
– Ах, оставьте, оставьте меня! – сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил онс нею? – думала она. – Неужели он видает ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме – мы чужие. Навсегда чужие!» – повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, Боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то…» – начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери.
– Уж прикажите за братом послать, – сказала она, – все он изготовит обед; а то, по-вчерашнему, до шести часов дети не евши.
– Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком?
И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.
V
Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.
Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого.
Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, – на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним.
Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в-третьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.
Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем:
– Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли…
– Получили наконец? – проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. – Ну-с, господа… – И присутствие началось.
«Если бы они знали, – думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, – каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» – И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа – перерыв и завтрак.
Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зерцала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.
Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним.
– После завтрака успеем кончить, – сказал Степан Аркадьич.
– Как еще успеем! – сказал Никитин.
– А плут порядочный должен быть этот Фомин, – сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.
Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил.
– Кто это входил? – спросил он у сторожа.
– Какой-то, ваше превосходительство, без упроса влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда…
– Где он?
– Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, – сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.
Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.
– Так и есть! Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. – Как это ты не побрезгал найти меня в этомвертепе? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли?
– Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.
– Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.
Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своимипостыдными «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.
Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.
– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал?
Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.
– Ах да, позвольте вас познакомить, – сказал он. – Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, – и обратившись к Левину: – Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.
– Очень приятно, – сказал старичок.
– Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, – сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.
Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.
– Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, – сказал он, обращаясь к Облонскому.
– Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? отчего?
– Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, – сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. – Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, – заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, – с одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной coterie[5] наживать деньжонки[6]. Прежде опеки, суды, а теперь земство… не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, – говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.
– Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, – сказал Степан Аркадьич. – Но, впрочем, после об этом.
– Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, – сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича.
Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.
– Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? – сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. – Так! я вижу: новая фаза.
Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, – слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, – чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.
– Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, – сказал Левин.
Облонский как будто задумался.
– Вот что: поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.
– Нет, – подумав, ответил Левин, – мне еще надо съездить.
– Ну, хорошо, так обедать вместе.
– Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.
– Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.
– Два слова вот какие, – сказал Левин, – впрочем, ничего особенного.
Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.
– Что Щербацкие делают? Все по-старому? – сказал он.
Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.
– Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что… Извини на минутку…
Вошел секретарь с фамильярною почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.
– Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, – сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: – Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич.
Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.
– Не понимаю, не понимаю, – сказал он.
– Чего ты не понимаешь? – так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.
– Не понимаю, что вы делаете, – сказал Левин, пожимая плечами. – Как ты можешь это серьезно делать?
– Отчего?
– Да оттого, что нечего делать.
– Ты так думаешь, но мы завалены делом.
– Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин.
– То есть ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?
– Может быть, и да, – сказал Левин. – Но все-таки я любуюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.
– Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.
– А что? – испуганно спросил Левин.
– Да ничего, – отвечал Облонский. – Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?
– Ах, об этом тоже поговорим после, – опять до ушей покраснев, сказал Левин.
– Ну хорошо. Понятно, – сказал Степан Аркадьич. – Ты видишь ли: я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.
– Прекрасно. Ну, до свидания.
– Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! – смеясь, прокричал Степан Аркадьич.
– Нет, верно.
И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.
– Должно быть, очень энергический господин, – сказал Гриневич, когда Левин вышел.
– Да, батюшка, – сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, – вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.
– Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?
– Да скверно, плохо, – сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.
VI
Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.
Домá Левиных и Щербацких были старые дворянские московские домá и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Шербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтическою, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотою кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, – всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.
Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.
Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.
Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.
Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель – директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.
Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити – отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, – казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но, чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком.
Слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.
Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или… он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.