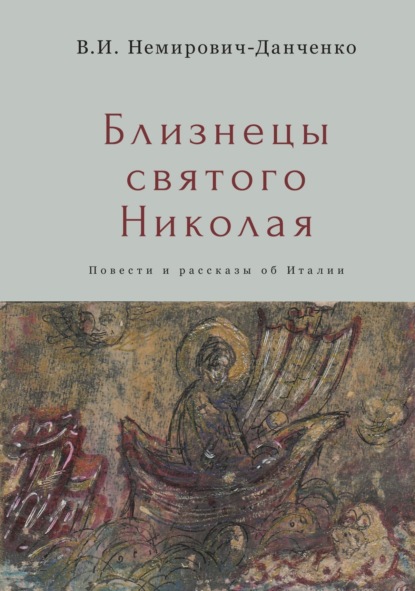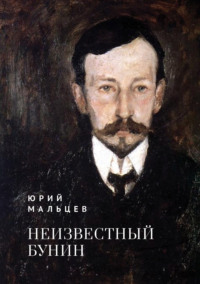Полная версия
Вольная русская литература
«Историю никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет, – говорит нам Живаго. – Войны, революции, цари, Робеспьеры – это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много – годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту…» (стр. 527). И как горький итог глубоких размышлений над нашей русской историей звучат слова доктора Живаго: «Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром» (стр. 307).
Однако всё это лишь самый незначительный, самый поверхностный слой книги Пастернака. Он был далек от мысли написать политический роман, политика всегда вызывала у него отвращение – как мелочное, недостойное серьезного человека занятие. Смысл книги лежит гораздо глубже. Его критика, его отталкивание от советской действительности происходит на уровне куда более глубинном, на том же уровне, что и у крупнейших русских мыслителей начала века – Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка, – задолго до революции с гениальной прозорливостью предсказавших в «Вехах»[18] всё, что затем случилось с Россией.
Главный стержень романа, которым в конечном счете определяется и его необычная форма, – персонализм. Персонализм, не имеющий ничего общего с тем индивидуализмом одиночки, якобы восставшего против исторического прогресса, в котором не раз упрекали Пастернака. Как верно отметил Федор Степун: «С точки зрения Пастернака, индивидуалист, в сущности, бездушен, потому что душа человека есть “человек в другом”. Индивидуалист же есть человек в себе. По терминологии Пастернака, человек в себе есть неизбежно человек обезличенный, так как мистерия личности питается христианством, а христианин живет любовью к ближнему. Ради защиты своих интересов индивидуалисты очень легко объединяются в коллективы, в которых, однако, каждый функционирует как вариант любого другого сочлена этого коллектива и в котором, защищая другого и других, каждый, в сущности, защищает только себя самого… этот западноевропейский индивидуализм является лишь обратной стороной большевистского коллективизма»[19].
Пастернаковское понятие жизни как жертвы тоже несовместимо с индивидуализмом. Тема жертвенности, проходя через весь роман, звучит в конце и в стихах Живаго:
Жизнь ведь тоже только миг,Только раствореньеНас самих во всех другихКак бы им в даренье(стр. 611),
и еще раз в последних строчках романа:
Ты видишь, ход веков подобен притчеИ может загореться на ходу.Во имя страшного ее величьяЯ в добровольных муках в гроб сойду(стр. 633–634).
Ни у Живаго, ни у Лары, ни у кого из главных лучших героев книги нет страха смерти, мучащего обычно всех индивидуалистов. «Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других, – говорит Живаго умирающей Анне Ивановне. – И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего» (стр. 82). И очень характерно чувство, которое испытывают Живаго, Тоня и их друзья, поедая чудом доставшуюся им утку в голодной революционной Москве: «…оказалось, что только жизнь, похожая на жизнь окружающих и среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая, что счастье обособленное не есть счастье, так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка» (стр. 203).
Нет, не в защиту индивида восстает Пастернак, а в защиту личности как носительницы высших духовных богатств и смысла жизни, личности как единственной бесспорной ценности нашего мира, личности, в которой только и раскрывается вся полнота жизни. Именно здесь – центр пастернаковского отталкивания от советской действительности, построенной на безличном начале, где жизнь каждого существует не сама по себе, а «пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики». Это – антагонизм между абстрактностью плоских теорий и объемностью конкретной жизни, между подчиненностью, скованностью и свободой, творчеством; между гигантоманией исторических свершений и подлинным величием малых, но добрых дел; между прямолинейной несомневающейся ясностью невежества и таинственной непостижимой сложностью существования, между правдой жизни и ложью идолопоклонства. «Что же касается до понимания жизни, до философии счастья, насаждаемой сейчас, просто не верится, что это говорится всерьез, такой это смешной пережиток. Эти декламации о вождях и народах могли бы вернуть нас к ветхозаветным временам скотоводческих племен и патриархов…» (стр. 479).
Так, парадоксальным образом, говорит нам Пастернак, русская революция оказалась на самом деле регрессом, шагом назад, подлинная же революция свершилась много веков назад, когда зародилось христианство, когда кончилась «власть количества» и «личность, проповедь свободы» пришла ей на смену, когда «отдельная человеческая жизнь стала божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной» (стр. 479).
Этим лежащим в основе книги персонализмом определяется и вся ее структура, только исходя из него можно понять и кажущуюся схематичность персонажей, их длинные монологи и неразговорные, неудобопроизносимые диалоги, и композиционную рыхлость (кажущуюся действительно недостатком, если книгу рассматривать как роман), и насыщенность повествования метафорами и сравнениями, и разнобой стилей («стилевой дуализм», как это называет Л. Ржевский[20], или контраст между стилем «журналистским» и «картинным», по определению Вилкока[21], или стилем «лирико-поэтическим» и стилем «эпикоописательным», по определению Марка Слонима[22]), и случайные встречи между персонажами, и наконец, заключительную семнадцатую стихотворную часть книги.
«Доктор Живаго» – это вовсе не роман в традиционном понимании, это раскрытие мира и личности через лирический монолог, хотя этот монолог и дается в третьем лице; это пропускание русской истории и русской жизни через призму восприятия богатой и сложной личности, ибо только личность, осмысливая действительность, придает ей цену, и бездушная бессмыслица фактов обретает смысл («фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего» – стр. 124). Но именно потому, что индивид не равен личности, пастернаковский роман-монолог не есть субъективный монолог новейших романов-исповедей, романов от первого лица, не есть субъективность, понимаемая как нечто частное, зыбкое, недостоверное. Это – субъективность как онтологический принцип персоналистически конструируемого бытия. Уяснить себе разницу нам помогает пастернаковское представление о сверхличной «родовой субъективности», разработанное им в его раннем философском трактате: «От каждой умирающей личности остается доля неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которою он участвовал в истории человеческого существования»[23]
Все, что мы видим в книге Пастернака, дано взглядом изнутри, даже эпические эпизоды, если к ним внимательно приглядеться, вовсе не являются контрастом к субъективности лирических эпизодов, а даны в том же ключе, но при меняющемся характере объекта, разумеется, меняется и оптика созерцающего субъекта: предметы разной величины и разноудаленные нельзя рассматривать одинаковым образом.
Конечно, Пастернак мог бы вовсе не давать этих «объективных» эпизодов, как бы выпадающих из монологического контекста, но тогда роман его был бы слишком узок, камерен, модернистски искусствен, изощренно нарочит и лишен широты дыхания, а именно этого Пастернак стремился избежать. «Всю жизнь мечтал он об оригинальности, сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания…» (стр. 511), – пишет Пастернак о Живаго, и слова эти могут быть целиком отнесены к нему самому, достаточно вспомнить признание, сделанное им в «Автобиографическом очерке»: «Я не люблю своего стиля до 1940 года… Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом»[24].
Но и здесь, в этих эпических кусках, сохранен всё тот же принцип субъективности. Когда мы читаем: «Все пассажиры поезда перебывали около тела [самоубийцы. – Ю. М. ]… Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома… не было бы на свете, не случись несчастья» (стр. 23), – мы видим, что Пастернак наделяет толпу как бы сверхиндивидуальным одинаковым у всех субъектом восприятия («у всех было такое чувство»). И когда мы читаем: «Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе» (стр. 16), – то видим, что Пастернак говорит о чувстве, о восприятии очень индивидуализированном, но которое, тем не менее, относится к обоим персонажам сразу. То же самое и о восприятии революции: «как будто каждый подавлен самим собой, своим открывшимся богатырством» (стр. 169).
И даже когда мы читаем о терзаниях Комаровского, то восприятие им Лары: «Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях номера казалась силуэтом ее неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пяльцы» (стр. 57), – это явно не его восприятие, не восприятие Комаровского, наглеца, циника, гурмана, а восприятие субъекта более чуткого и более высокого, нежели он. Или: «…солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну [жел. дор. – Ю. М.] и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада» (стр. 23), или: «одуряющее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени [деревьев. – Ю. М. ] на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки» (стр. 25), или: «деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина» (стр. 49), или: цветы у гроба «не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах, и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали» (стр. 571), – всё это не восприятие какого-либо конкретного субъекта, героя книги или автора (ибо автору романа не позволено вмешиваться в ход событий со своим субъективным восприятием, главное условие романа как жанра и есть как раз объективность вездесущего, всевидящего и всезнающего автора), – всё это у Пастернака утверждение субъективности как таковой, апофеоз личностного, субъективного восприятия мира и истории, противопоставляемого советскому якобы научному, объективному и безличному утверждению непререкаемых истин, исходящих сверху, от руководителей, и обязательных для всех советских людей. «…Пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы…» (стр. 469).
Вот отчего все эти «словно» и «как будто», все эти метафоры, так раздражающие некоторых критиков, считающих, что метафоры уместны лишь в поэзии[25]. Этим же персонализмом объясняется и кажущаяся бледность персонажей, их не-рельефность, ибо они показываются прежде всего изнутри. И этот изнутри идущий свет, разумеется, не дает того же освещения, что и яркая магниевая вспышка фотографа. Любопытно отметить, что второстепенные персонажи в романе выглядят ярче и рельефнее именно потому, что их рассматривают снаружи.
Поражает непонимание многими западными критиками образа Живаго и его судьбы. Говорят о Живаго как о пассивном, безвольном человеке, замкнутом в себе и в своей поэзии и почему-то (а почему, даже не дают себе труда задуматься!) опустившемся, впавшем в нищету. Какой нелепостью и каким кощунством для русского уха звучит, например, утверждение И. Кальвино о том, что Живаго опускается, «отказавшись от всего во имя кристальной духовной чистоты», и что он пополняет собой галерею литературных героев Запада, отказывающихся влиться в общество, галерею “etrangers”[26], только поведение западных “etrangers” обуславливается, по крайней мере, их «пограничной ситуацией», тогда как для Живаго И. Кальвино никакого оправдания не находит![27]
Да полно, уж не на другой ли планете прожил Кальвино все эти годы? Неужели он не слышал ничего о судьбе самых талантливых людей России? Неужели он не знает, что Н. Гумилев, И. Бабель, И. Катаев, С. Клычков и Б. Пильняк уничтожены, что Мандельштам, дважды побыв в ссылке, погиб в концлагере, что Есенин, Маяковский и Цветаева покончили с собой, что пошли в лагеря и ссылки Н. Заболоцкий, Н. Эрдман, Н. Клюев, что Андрей Платонов работал дворником, что Анне Ахматовой приходилось голодать, а Антон Ульянский умер от голода, что Зощенко, Булгаков, Пастернак тоже не могли печатать своих книг и вынуждены были пополнить собой галерею “etrangers”, что Бунин, Ремизов, Мережковский и Замятин ушли в эмиграцию? Это те, кто составляют гордость русской литературы XX века, не говоря о сотнях писателей менее известных. И такие же длинные списки можно составить из биологов, кибернетиков, лингвистов, философов, художников, врачей, инженеров и т. д.
Судьба Юрия Живаго – это типичная судьба русского человека, решившего остаться личностью и не давшего загнать себя в «узкие шоры нового революционного сверхгосударства» (стр. 260). Впрочем, не до конца типичная: Живаго умер рано и тем избежал ареста и лагеря, куда отправились впоследствии его друзья Дудоров и Гордон и его возлюбленная, Лара. Неужели западному читателю ничего не говорят такие детали, как, например, то, что едва Живаго посмел в своих лекциях говорить то, что он думает, а не то, что предписано сверху, как его обвинили в «идеализме, мистике, неошеллингианстве» (стр. 473), Или такая деталь: «В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины на службе отказались от церковного отпевания [Живаго. – Ю. М. ]» (стр. 570), А грустное признание Живаго: «От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия» (стр. 560), – неужели тоже остается незамеченным и непонятым? Так же как и предупреждение практичного делового Комаровского: «…никто так явно не нарушает этой [советской. – Ю. М.] манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич… Вы – насмешка над этим миром, его оскорбление» (стр. 488). Интересно в этой связи посмотреть, что говорил Пастернак о другом, по общему мнению, безвольном герое – о Гамлете: «“Гамлет” не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения… “Гамлет” – драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения»[28]. И именно стихотворением «Гамлет» открывается цикл стихов Юрия Живаго, где Гамлет-Живаго говорит:
Я один, всё тонет в фарисействе.Жизнь прожить – не поле перейти(стр. 600).
Сохранить себя как личность среди враждебной обезличенной стихии с риском для собственной жизни, гордо идти своим путем до конца, приняв нищету, отверженность, унижение, но ни в чем не уступив, это ли безволие и бегство в чистую поэзию?
Но и сама поэзия, кстати, понимается и воспринимается нами, русскими, совершенно иначе. Как странно читать нам слова Вилкока, тонкого и чуткого литературного критика: «…то, что поэты стали писать прозу, быть может, есть следствие исчерпанности и бесплодности, присущей всем поэтическим формам, практиковавшимся до сих пор европейской цивилизацией»[29], читать это русским интеллигентам, у каждого из которых дома на письменном столе, как Евангелие, лежит томик Ахматовой, или Пастернака, или Цветаевой, или Мандельштама, наших пророков XX века, олицетворяющих собой сознание нашей эпохи, несущих в себе квинтэссенцию нашего мироощущения, помогающих нам возвыситься над собственными несчастьями и находить в себе силы, чтобы жить, в поэзии которых запечатлены с дивной силой наше горе, наша русская судьба, наша боль, и устами которых говорит наша совесть. Говорит до тех пор, пока не «зажмут измученный рот, которым кричит стомильонный народ» (как с полным правом сказала о себе Ахматова[30]).
Поэзия, поэтический талант «в высшем широчайшем понятии есть дар жизни», – говорит Пастернак. Дар проникновения в тайны жизни, способность проникаться духом жизни, чувствовать ее красоту, ее богатство[31], чувствовать глубинную суть существования, ибо этой глубине сопричастна творческая личность – самое большое чудо жизни – личность, входящая в непосредственное соприкосновение с тайнами бытия. Поэзия способна дать нам знание жизни более глубокое, нежели наука (ошибающаяся и путем преодоления ошибок движущаяся вперед в своем узком, четко ограниченном русле) и нежели философия с ее абстракциями.
Такой взгляд имеет глубокие корни в истории русской мысли. Эта традиция идет от Ивана Киреевского с его оригинальной философией цельного знания, целостного постижения бытия; ее мы находим у Вл. Соловьева, в его критике отвлеченных начал западной философии, и в обосновании интуитивизма у Н. Лосского, и в апологетике личности и свободы как основных философских категорий у Н. Бердяева.
«Вот это-то, бывало, и приносило счастье и освобожденье. Неголовное, горячее, друг другу внушаемое знание. Инстинктивное, непосредственное. Таким знанием была полна она [Лара. – Ю. М.] и сейчас, темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже двадцать раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет…» (стр. 580). Этим знанием полны и многие страницы книги Пастернака, говорящие не сухим рациональным языком прозы и даже как бы не словами вовсе, а некой внутренней музыкой, откуда-то из глубины идущим голосом. Многие страницы этой книги: бегство Лары и Живаго и их обреченная жизнь в заброшенном доме зимой, отъезд Лары и предсмертный разговор Антипова-Стрельникова с Живаго (часть XIV «Опять в Барыкине»), прощание Лары с Живаго (стр. 578–582), несомненно, со временем войдут в школьные христоматии; по силе чувства, напряженности переживания и высокой поэтичности они могут сравниться с лучшими творениями русской литературы прошлого. Как закономерный заключительный полнозвучный аккорд венчают эту удивительную книгу гениальные стихи, полные лиризма и печали, чистоты, одухотворенного трепета и музыки.
III. Первые голоса: Есенин-Вольпин, Нарица, Тарсис, Вельский
В 40-50-х годах ходили в списках стихи Сергея Есенина, некоторые из этих стихов так никогда и не появились в советской печати, другие печатались в 20-х годах, затем не переиздавались, и поэтому читатели, не имея возможности купить их, переписывали. В 50-60-х годах стали распространяться самиздатовским путем также и стихи сына Сергея Есенина – Александра Есенина-Вольпина, наследовавшего от своего великого отца страсть к поэзии. В 1949 году А. Есенин-Вольпин был арестован, как он сам говорит, за стихи «Никогда я не брал сохи» и «Ворон». «Об этих стихах доносили органам госбезопасности», затем он был «признан невменяемым, заключен в тюремную психиатрическую больницу в Ленинграде, а осенью 1950 года сослан на пять лет в Караганду, откуда, впрочем, был освобожден по амнистии, последовавшей за смертью Сталина»[32]. Любопытно отметить, что за несколько недель до того, как Есенин-Вольпин был арестован и признан невменяемым, он блестяще защитил кандидатскую диссертацию (его считают очень талантливым математиком как его советские коллеги, не раз выступавшие с коллективными письмами в его защиту, так и ученые за рубежом).
В 1959 году, опасаясь нового ареста, Есенин-Вольпин тайно переслал на Запад книгу своих стихов и «Свободный философский трактат», вскоре после этого он был арестован и снова помещен в психиатрическую больницу. Книга же вышла из печати в 1961 году в издательстве Прегер (Нью-Йорк) с параллельным английским переводом[33]. Впоследствии А. Есенин-Вольпин стал одним из наиболее известных участников так называемого Демократического движения в защиту прав человека в СССР, он автор многих самиздатовских статей и исследований по вопросам права (в частности, знаменитой «Юридической памятки для тех, кому предстоят допросы»[34]).
Основная тема стихов Есенина-Вольпина – защита свободы, неприятие диктатуры, навязывающей человеку насильно свою идеологию, идеологию, которую
суют как святой закон,Да еще говорят: любите…(стр. 48),
неприятие принудительного и общеобязательного марксистского учения:
Как-то ночью, в час террора, я читал впервые Мора,Чтоб Утопии незнанье мне не ставили в укор.В скучном, длинном описанье я искал упоминаньяОб арестах за блужданья в той стране, не знавшей ссор, —Потому что для блужданья никаких не надо ссор.Но глубок ли Томас Мор?(стр. 52)
Стихи А. Есенина-Вольпина, особенно те из них, которые написаны в тюрьме, полны трагизма, страстного негодования и протеста.
Разбито сердце, забыта страсть —Нас разделила чужая власть ‹…›…Теперь ты в ссылке, а я в тюрьме,Всю ночь при лампе, весь день во тьме,Среди бандитов, среди воров,Среди попов и профессоров.…И нет вопроса: за что, к чемуТебя – за Волгу, меня – в тюрьму!(стр. 64–66)
…Не сказали мне солдаты, в чем причина,И допрос не состоялся поутру…Так за что же угрожает мне кончина —Неужели за пристрастие к перу(стр. 72)
Однако в них нет отчаянья, поэт приходит к стоическомуспокойствию и даже находит мужество, чтобы шутить:Я доволен: ведь сегодня на ЛубянкеЯ увидел знаменитую тюрьму!(стр. 74)
И утешается саркастической мыслью:И меня не похоронят по ошибкеС коммунистами на кладбище одном!(стр. 74)
Горькая ирония этих последних строк особенно нравилась бунтующей молодежи, именно эти две последние строчки очень любили цитировать. Мужество А. Есенина-Вольпина вызывает тем большее уважение, что он был одним из самых первых, еще немногих тогда и редких смельчаков, отваживавшихся среди всеобщей апатии и страха открыто высказываться. Его поведение достойно восхищения. Передавая свою книгу на Запад и ожидая за это новых репрессий, он писал: «В беспримерном всеобщем лицемерии состоит наша самая глубокая трагедия. Я не уклоняюсь от этой участи (ареста), потому что в нашей стране я только тогда бываю доволен своим поведением, когда чувствую, что мне удалось привести лицемеров и малодушных в замешательство» (стр. 4).
Книга Есенина-Вольпина заканчивается гордыми словами: «В России нет свободы печати – но кто скажет, что в ней нет и свободы мысли?» (стр. 170).
В августе 1960 года в ленинградском Эрмитаже 50-летний художник и скульптор Михаил Нарица попытался передать туристке-француженке пакет с рукописью своей повести «Неспетая песня». Но француженка испугалась и бросила пакет на пол. Оба были задержаны и допрошены милицией, но так как и Нарица, и француженка заявили, что им неизвестно, кому принадлежит пакет, их отпустили. Через некоторое время Нарица сделал еще одну попытку передать рукопись за границу, на этот раз удачную. Повесть Нарицы была опубликована на Западе сначала под псевдонимом М. Нарымов[35], затем под его собственным именем[36]. Вскоре после опубликования повести Нарица был арестован и заключен в тюремную психиатрическую больницу. Свой арест, допрос и помещение в тюремную психиатрическую больницу Нарица описал во впечатляющем очерке, озаглавленном «Преступление и наказание»[37].
Повесть М. Нарицы «Неспетая песня» – бесхитростный рассказ автора о своей собственной жизни, о пережитом им и выстраданном: детство в крестьянской семье на Псковщине, учеба в художественном училище в Ленинграде, «раскулачивание» дяди завистливыми соседями, уход из комсомола, арест, ночные допросы, размышления в тюрьме и беседы с сокамерником, помогающие ему осмыслить, что происходит в стране, затем лагерь. Повесть заканчивается тем, что к жене героя, отправленной в ссылку после ареста мужа, приходит вернувшийся из лагеря бывший сокамерник мужа и сообщает ей о его смерти. Сам же Михаил Нарица, однако, вернулся из лагеря, и мучения его окончились не так скоро, как мучения его героя. После того как Нарица отбыл пять лет в Ухто-Печерском лагере (с 1935 по 1940 г.), он был мобилизован в рабочий батальон, через полгода отпущен по инвалидности, в 1948 году выселен из Архангельской области, где он проживал с семьей; в 1949 году арестован во второй раз – год тюрьмы, затем ссылка в Караганду; в 1957 году реабилитирован и освобожден; в 1961 году – новый арест и заключение в спецп-сихбольницу на три года; после освобождения – скитания и травля со стороны КГБ.