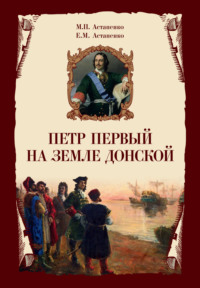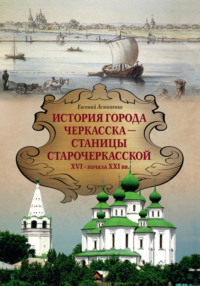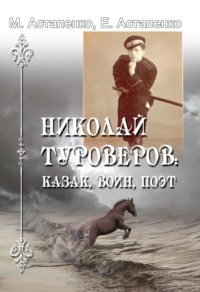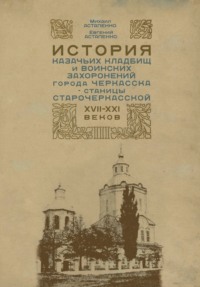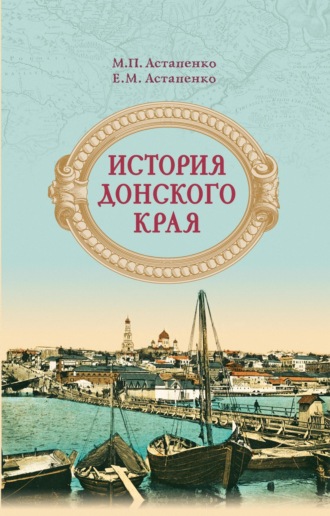
Полная версия
История Донского края
Высоко оценив роль донских казаков во взятии Казани, царь Иван IV хотел одарить донцов казной, но, как отмечал историк А. И. Ригельман, “донцы ничего того не взяли, а просили, чтоб только пожалованы были рекою Доном до тех мест, как им надобно, что царь им и не отказал. Он им реку оную пожаловал и грамотою утвердить изволил, с крепким подтверждением и даже заклятием о ненарушимости ее “во веки веков”[112].
Позже это важное событие в русской истории, в котором посчастливилось участвовать донским казакам, было воспето в казачьих песнях.
После покорения Казанского ханства настал черед Астраханского царства, вставшего на пути полного овладения россиянами бассейном Волги и северной акватории Каспийского моря. Весной 1554 года русские войска двинулись на Астрахань, донцы приняли участие в этом походе. Во главе казачьих отрядов стояли атаманы Федор Павлов, Андрей Щадра и Ляпун Филимонов. Перейдя через переволоку с Дона на Волгу, они влились в передовой отряд армии Ивана Грозного, которым командовал князь Вяземский[113].
Приняв казаков в свое войско, князь велел им идти в авангарде, что они и сделали. Несколько дней спустя недалеко от Черного острова донцы встретили отряд татар во главе с самим астраханским царем Ямгурчеем, здесь же находилась и его семья. В завязавшемся сражении казаки разгромили татар, часть которых ринулась обратно в город, а два других отряда ушли в степь и в сторону Азова.
Атаману Павлову удалось настигнуть в районе Базцыж – Мачака и захватить в плен царских жен и дочерей. Самого Ямгурчея, сопровождаемого только двадцатью всадниками личного конвоя, другая группа казаков гнала до самого Азова, где он и нашел временный приют у тамошнего коменданта.
Вскоре князь Вяземский взял Астрахань, поставив здесь царем знатного татарина Дербыша, который год спустя задумал изменить России и переметнуться к крымцам. Но донской атаман Ляпун Филимонов, не дожидаясь свершения изменнических планов Дербыша, явился с храбрыми казаками под стены Астрахани. Изменники пришли в ужас, оставили город, рассеявшись по улусам. Казаки преследовали их… Сам Дербыш в 1557 году бежал в Азов. Пришедший в Астрахань с государевыми войсками стрелецкий голова Черемысинов привел испуганный народ к присяге и, таким образом, Астрахань навсегда была присоединена к России[114].
Присоединение Казани и Астрахани с их владениями к Московскому государству открыло россиянам широкий путь на восток, в глубины Сибири. В последующее время туда ринулись отряды во главе с донскими казаками Ермаком, Дежневым, Хабаровым и вышли к Тихому океану и североамериканскому континенту.
Теперь взоры царя Ивана Грозного обратились на Запад, где спокойствию Русского государства угрожал Ливонский орден, закрывавший выход России в Балтику. Началась изнурительная Ливонская война, продлившаяся с перерывами 25 лет (1558–1583 гг.). В ее сражениях приняли участие и донские казаки.
Главной целью кампании 1558 года русское командование ставило захват побережья Балтийского моря от Нарвы до Риги. Основной удар наносился по Риге, куда в качестве авангарда были высланы казачьи конные сотни и легкая русская кавалерия. После взятия русскими войсками крепости Сренск началось наступление на Дерпт. Осада этой сильной крепости велась полками князя Андрея Курбского, который в своих записках отмечал, что в составе его войска находилось до 10 тысяч казаков. Дерпт был взят, а вскоре пала и важная в стратегическом отношении крепость Нейхаузен и двадцать рыцарских замков. Н. М. Карамзин, касаясь участия донцов в Ливонской войне, отмечал, что государевы “воеводы, не занимаясь осадою больших крепостей Вендена, Риги, подступали единственно к маленьким городкам. Немцы уходили от них. Один Шмельтин не сдавался”. Сколько ни штурмовали его воеводы, но взять не смогли. И тогда “казаки наши разбили ломами каменную стену его и долго резались на улицах с отчаянным неприятелем”.
Военные действия продолжались. Боясь усиления Москвы в Прибалтике, в войну на стороне ливонцев выступили Польша и Швеция. По приказу царя Ивана IV в Можайске для действий против Польши было сконцентрировано 37-тысячное войско, в составе которого насчитывалось более 6 тысяч казаков во главе с атаманами Яновым, Черкашениным и Ермаком Тимофеевичем.
В 1563 году русские войска в результате энергичной осады и штурма взяли город Полоцк. В этих боях особо отличились казаки атамана Михаила Черкашенина, а сам атаман “оказал чудеса храбрости”, что отметил Н. М. Карамзин в пятой главе восьмого тома своей “Истории государства Российского”. После падения Полоцка королевская Рада предложила заключить перемирие, что и было принято Москвой.
Вскоре в Польше королем стал энергичный и талантливый полководец Стефан Баторий, который возобновил войну с Россией. Под натиском превосходящих сил поляков русские войска стали оставлять занятые города. В 1581 году армия польского короля осадила русский род Псков. В его обороне приняли участие и донские казаки во главе с уже упоминаемым нами атаманом Михаилом Черкашениным. Борьба за город отличалась особым ожесточением и упорством, поляки несли большие потери, погиб ближайший советник короля Стефана Бекеш. Но и русские теряли своих воинов: в одном из ожесточенных боев, как сообщает “Писаревская летопись”, пал атаман Черкашенин[115].
Простояв под Псковом тридцать две недели, Стефан Баторий вынужден был снять осаду ввиду невиданного упорства русских и уйти восвояси. Этот успех россиян под Псковом помог царю Ивану IV добиться более благоприятных условий мира, в целом невыгодного для Русского государства.
В общем, в этот нелегкий для России период, как отмечал историк Сухоруков, “по гласу призывающего отечества отборные дружины казаков, к войне всегда готовые, … несколько раз служили под знаменами российскими на севере и на западе, а в конце сего столетия, в 1593 году, с однородцами своими уральскими казаками, составляли передовой отряд в российской армии, выступивший под начальством князя Александра Засекина к невскому устью противу шведов…”[116].
В 1598 году казачьи сотни, несшие сторожевую службу на юге Русского государства, в одном из сражений с татарами захватили пленных, от которых узнали о намерении крымского хана идти со своей конницей и семитысячным отрядом турецкого султана на Русь. Сообщив об этом новооскольскому воеводе князю Солнцеву, донцы помогли сорвать эту попытку хана опустошить южнорусские пределы.
Обращаясь к этой странице донской истории, выдающийся русский поэт Иван Никитин писал:
Русь помнит те былые годы,Когда свой гибельный ударСын дикой степи и свободы,Бросал ваш предок на татар.Когда от Дона до УралаИ вдоль днепровских береговВнезапной молнией сверкалаКазачья сабля меж врагов.Особой печатью в истории донского казачества отмечено время освоения могучих просторов Сибири. “В покорении Сибири, – пишет выдающийся русский писатель Валентин Распутин, – казаки сыграли роль исключительную, почти сверхъестественную. Только сословие людей дерзких и отважных, не сломленных тяжелой русской государственностью, чудесным образом смогло сделать то, что удалось им”.
16. Смута и донские казаки. 1605–1612 гг.
В начале XVII столетия Русское государство испытало страшные потрясения, связанные с польско-шведской интервенцией, движением самозванцев, вошедшим в историю России под названием Смутного времени. В этих событиях приняли участие и донские казаки.
Надо отметить, что с воцарением на русском престоле Бориса Годунова (1598 г.) отношение Москвы к донцам резко переменилось. Царь, видя в казаках своевольников, лишил их государева жалованья, определенного в свое время царями Иваном Грозным и Федором Иоанновичем. Отныне Годунов не признавал казаков равноправной стороной и перестал принимать казачьи посольства. Воеводы пограничных с Доном городов получили строгий приказ царя перехватывать казаков, идущих без государева разрешения на Русь и сажать их в темницы. Все эти меры, не всегда несправедливые, озлобили донцов, и когда на западной границе появился “истинный” царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, казаки отправили туда атамана Андрея Корелу, чтобы он узнал: настоящий ли это сын Грозного царя?
“Прибыв в Краков, где воевода сандомирский представлял самозванца сейму, Корела, – отмечает историк Сухоруков, – прежде всего старался разведать, не ложно ли кто-нибудь называет себя царевичем. Но, видя от всех польских вельмож и от самого короля Сигизмунда отличный прием и царские почести, оказываемые Отрепьеву, и сам признал его истинным сыном русского царя, именем всех своих собратьев бил ему челом, как законному государю, представил дары и обнадежил в верности и преданности всех казаков”[117].
А. С. Пушкин по-своему увидел эту сцену в своей драме “Борис Годунов”, когда на вопрос самозванца атаману Кореле: “Ты кто?”, тот отвечает:
Казак:К тебе я с Дона посланОт вольных войск, от храбрых атаманов,От казаков верховых и низовых…Самозванец:Я знал донцов: не сомневался видетьВ своих рядах казачьи бунчуки.Благодарим донское наше войско.Мы ведаем, что ныне казакиНеправедно притеснены, гонимы;Но если бог поможет нам вступитьНа трон отцов, то мы по старинеПожалуем наш верный вольный Дон[118].Признав Лжедмитрия “истинным” государем, донцы через сокольничего Семена Годунова велели передать царю Борису в Москву: “Объявите гонителю нашему Борису, что мы скоро будем к нему с царевичем Дмитрием”[119]. Встревоженный этой информацией царь, забыв о прошлых преследованиях донцов, направил к ним на Дон своего посла Петра Хрущова с известием о смерти настоящего царевича Дмитрия много лет назад и с предложением служить ему, царю Борису. Однако казаки не поверили царскому посланнику и, заключив его в оковы, отправили к Гришке Отрепьеву, который с войском двигался на Москву.
Поддержанный донскими казаками и обманутыми массами простого московского люда, самозванец, после скоропостижной и неожиданной смерти царя Бориса, утвердился на царском троне, торжественно короновавшись в Успенском соборе Кремля 30 июля 1605 года. Об этом периоде русской истории В. О. Ключевский, великий русский историк, писал: “В… годы Смуты всего больше вреда наделали государству казаки, которые врывались в его пределы с польскими отрядами. Но казаки, которые приходили в Московское государство с берегов Днепра, Дона и Терека под начальством князя Трубецкого, Заруцкого, Лисовского, Сапеги не принадлежали к старому домовитому казачеству. Это были, в большинстве, недавние гости южно-русских степей, голытьба, как их тогда называли, т. е. беглые или не тяглые люди из Московского государства, недавно укрывшиеся в степях и теперь возвращавшиеся в Отечество, чтобы пограбить”[120].
Однако вскоре казаки разобрались в политической обстановке и решительно поддержали русское ополчение, во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым пришедшее освобождать от поляков Москву. Вскоре сюда же подошел польский гетман Ходкевич с огромным обозом, где находилось продовольствие для запертых и порядком оголодавших в Москве поляков. Оценив обстановку, Ходкевич решил нанести первый удар по ополчению Пожарского и Минина, занимавшего позиции у Новодевичьего монастыря. Донские казаки в это время укрепились в Замоскворечье.
Атаки поляков продолжались весь день, и хотя русским ополченцам удалось отбиться по всем пунктам, но они были настолько изнурены, что, как отмечают историки, “у воинов руки опустились и о дальнейшем сопротивлении уже не приходилось думать”.
Казачьи атаманы Межаков, Романов и Козлов, внимательно и напряженно следившие за ходом битвы, были недовольны позицией невмешательства, занятой князем Трубецким, который являлся верховным начальником казаков. Наконец, атаман Феофилакт Межаков подошел к Трубецкому и проговорил, сурово глядя на князя:
– От вашей нелюбви Московскому государству пагуба становится! – и, обернувшись к своим казакам, скомандовал: “На коней!” Стремительный удар свежей казачьей конницы решил исход битвы в этот день: понеся потери, Ходкевич отступил, укрывшись за телегами в обозе.
23 августа 1612 года над позициями противника стояла тишина: неприятели зализывали раны, готовясь к решающему сражению. Ополчение князя Пожарского занимало позиции у церкви Ильи Обыденного, казаки стояли у Лужников, устроив здесь рвы. 24 августа с утра поляки широким фронтом начали наступление. Войсками левого фланга непосредственно командовал сам Ходкевич, в середине шла конница Зборовского, пехота Граевского и Неверовского, справа двигались сотни Конецполького и запорожцы гетмана Ширяя. На сей раз главный удар Ходкевич нацелил на донских казаков, надеясь разгромить эту, по его мнению, главную силу “московитов”.
Превосходящими силами запорожцы и поляки сумели выдавить донцов из неглубоких рвов, занять их и продвинуться к церкви Святого Климента. Весьма довольный достигнутым успехом, Ходкевич велел своим офицерам разместить в церкви часть груза из обоза и поставить охрану, предполагая продолжить наступление. Однако казаки, перестроив свои ряды, стремительной и мощной контратакой вышибли поляков из церкви, захватив оставленные там припасы.
Наступило тягостное затишье, но по всему было видно, что поляки готовятся к новой атаке. Межаков отправил к князю Пожарскому гонца, чтобы узнать, почему его воины не участвуют в сражении. Князь отправил к казакам келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына с известием, что его ополченцы настолько физически измотаны прошедшими боями, что пока не в силах биться с поляками, и просил казаков пока самостоятельно вести бой. Палицын, прибыв в казачий лагерь, обратился к донцам с проникновенной речью:
– Братия православные христиане! Вы первыми начали доброе дело борьбы с ляхами и крепко стояли за веру православную, за что раны и глад многие из вас приняли. В сей тяжкий час постойте еще, братия, за веру православную и государство русское и не уходите на Дон восвояси. А коль надобно вам заплатить за сие, то отдам я вам казну монастырскую, ибо боле у меня ничего нет!..
– Нам казны не надобно, отче! – хмуро ответствовал ему атаман Межаков. – Мы не пойдем на Дон до тех пор, пока не выручим Москву от ляхов! К бою, братья-казаки!
Донцы с криками “ясак” врубились в ряды поляков, круша их направо и налево. Пришли в движение и ополченцы князя Пожарского, набравшиеся сил после отдыха. К полудню казаки пробились к обозам противника, захватив четыреста возов с припасами. Ходкевич, у которого из многотысячного войска осталось не более четырехсот боеспособных воинов, приказал начать отступление, что и было сделано с наступлением темноты. С великим трудом прорвавшийся в Кремль с тремястами бойцами полковник Неверовский сообщил эту нерадостную весть осажденным там собратьям, добавив к голодавшим там ртам еще триста новых едоков.
Русские плотно обложили Кремль, и 15 сентября князь Пожарский предложил осажденным здесь полякам сдаться, но те ответили отказом. 22 октября донцы мощным ударом со стороны Китай-города вышибли занимавших там позиции поляков, загнав и их в Кремль. Для осажденных наступили лютые дни: испытывая страшный голод, они вынуждены были пожирать мертвых собратьев, не брезгуя кошками и собаками. Наконец, их физические и моральные силы истощились, и 24 октября 1612 года они объявили о готовности сдаться на милость победителя. На следующий день со скрипом отворились все ворота Кремля, казаки и ополченцы с радостным гомоном вошли туда. Поляки, сложив оружие на площади перед Успенским собором, с тревогой ждали решения своей участи. Всех пленных разделили на две части: те, кто попал к князю Пожарскому, позже были обменены на русских пленных во главе с митрополитом Филаретом, отцом будущего царя Михаила Романова. Поляки же, доставшиеся казакам, в большей части были истреблены обозленными донцами. Их имущество частью передали в казну, частью распределили между казаками и ополченцами.
Донские казаки отличились и в последующих событиях этого смутного периода. Именно “казацкие атаманы, а не московские воеводы, – писал историк В. О. Ключевский, – отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой”[121]. Именно к этому времени и относится появление известной русской поговорки: “Пришли казаки с Дону, погнали ляхов до дому”[122].
17. Восстание Ивана Болотникова и донские казаки. 1606–1607 гг.
В годы Смуты донские казаки приняли участие в первой крестьянской войне под предводительством Ивана Болотникова, которая явилась одним из крупнейших социальных движений в истории России, потрясшим основы всего государства. Одной из причин этой войны была попытка угнетенных слоев тогдашнего русского общества освободиться из-под гнета бояр, дворян и царя. Имелись, впрочем, и другие причины восстания, ибо в нем на стороне Болотникова сражалась и часть дворян, недовольных боярством и царем.
Донские казаки наряду с другими социальными группами русского государства приняли участие в восстании Болотникова. Историк И. И. Смирнов, автор обширного исследования под названием “Восстание Болотникова”, прямо указывает, что наряду с холопами, крестьянами, стрельцами и посадскими людьми в восстании Болотникова участвовали и донские казаки[123].
Говоря о причинах участия донцов в восстании, Смирнов считает, что это, в основном, была боязнь воцарения самодержавно-крепостнических порядков на Дону. Далее он отмечает, что “наиболее яркими представителями мятежного казачества является Илейка Муромец, выходец из городских низов, затем казак, и, наконец, самозванный “царевич Петр”. Но и в биографии самого Ивана Исаевича Болотникова период жизни у казаков сыграл важную роль, так как именно с бегства к казакам холоп Болотников начал свою борьбу против феодального гнета”[124].
Болотников, будучи в молодости холопом князя Андрея Телятевского, бежал от него в степь к казакам. Здесь, на Диком поле, он был захвачен в плен татарами и продан на одном из невольничьих рынков в Турцию. Проплавав несколько лет гребцом на галерах, он был освобожден немецкими моряками, разбившими турок на море, и попал в Венецию. “После скитаний, – дополняет эту картину историк Р. Г. Скрынников в своей книге “Минин и Пожарский”, – Болотников попал к украинским казакам, которые оценили храбрость и распорядительность недавнего невольника и выбрали его атаманом”[125]. Вскоре Болотников встал во главе нарастающего народного восстания.
Что касается другого руководителя повстанцев – казака Илейки Муромца – то он, как отмечал И. И. Смирнов, “казаком стал около 1603–1604 гг. и на протяжении двух-трех лет своего превращения в “царевича” участвовал с казаками в походах на Терек и в Тарки; затем, по возвращении с Терека в Астрахань, его “взяли казаки Донские и Волжские”, с которыми он плавал по Волге и, наконец, вновь оказался на Тереке, где и был провозглашен казаками “царевичем”[126]. Отсюда отряд Илейки Муромца двинулся на соединение с Болотниковым, который уже стоял под Калугой, двигаясь на Москву.
Главный отряд донских казаков в войске Болотникова состоял под командой донского атамана Юрия Беззубцева[127]. Численность этого отряда документы не уточняют, как и нет возможности определить и общее количество казаков в войске Болотникова. “Несомненно, однако, – отмечает И. И. Смирнов, – что число казаков в войске Болотникова было весьма значительным, что следует хотя бы из того факта, что взятые в плен Василием Шуйским в сражении 2 декабря 1606 года 6–10 тысяч человек были именно казаки”[128]. Впрочем, в данном случае речь идет не только о донских, но и о терских, волжских и запорожских казаках.
В составе армии Болотникова находился и еще один небольшой отряд казаков, которым командовал атаман Федор Нагиба[129].
Когда в конце октября 1606 года войско Болотникова осадило Москву, где заперлись царь Василий Шуйский с боярами и войском, казаки стали одной из активных сил в сражении за Москву. Борьба здесь была долгой и изнурительной, одно время даже казалось, что Болотников вот-вот захватит столицу, но царю все-таки удалось удержать город в своих руках.
2 декабря 1606 года под Москвой произошло решительное сражение между царскими войсками под командованием талантливого воеводы М. В. Скопина-Шуйского и повстанцами Болотникова, на стороне которого дрались донские казаки атамана Юрия Беззубцева. Сражение было жарким, и ни одна из сторон долгое время не имела перевеса. И вдруг в решающий момент боя на сторону царских войск перешел дворянин Истома Пашков с дворянской частью своего отряда. “У Болотникова, – писал Н. М. Карамзин, – остались казаки, холопы, северские бродяги, но он бился до совершенного изнурения сил и бежал с немногими к Серпухову”[130].
Дольше и мужественней всех держались казаки во главе с атаманом Юрием Беззубцевым. Создав в деревне Заборье укрепление из тройного ряда саней, тесно связанных и облитых водой, казаки отбили все атаки правительственных войск. Скопин-Шуйский от имени царя предложил доблестным казакам перейти “на государеву службу”, обещая взамен жизнь и награды. Донцы, видя, что Болотников их бросил, согласились, сложили оружие и были отвезены в Москву. Здесь из них сформировали особый отряд, который в дальнейшем, оказавшись под Калугой, снова перешел на сторону Болотникова. Именно этот казачий отряд помог воеводе Болотникова князю Телятевскому разгромить 3 мая 1607 года под Калугой, у села Пчельня, войско Шуйского.
Это поражение заставило царя мобилизовать все свои силы на борьбу с повстанцами. Вскоре государевы воеводы Лыков и Голицын нанесли недалеко от Тулы поражение войскам недавнего победителя у Пчельни князя Телятевского. И снова в бою дольше всех держались казаки. “Храбрейшие из злодеев казаки терские, яицкие, донские, – отмечал Карамзин, – числом 1700, засели в оврагах и стреляли; уже не имели пороха, и все еще не сдавались; их взяли силой на третий день и казнили”[131].
Потрепанные войска Болотникова отошли к Туле и укрепились здесь. Сюда, как отмечал профессор С. Ф. Платонов, автор книги “Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.”, “пришел самозванный царевич Петр Федорович и с ним путивльский воевода … князь Гр. П. Шаховской. Первый из них привел казаков с Терека, Волги, Дона и Донца”[132]. Кроме этих казаков, здесь укрепились и казачьи отряды во главе с атаманами Юрием Беззубцевым и Федором Нагибой. Четырехмесячная плотная блокада Тулы царскими войсками завершилась 10 октября 1607 года капитуляцией Болотникова, которому царь пообещал сохранить жизнь. Сохранение жизней было гарантировано и другим повстанческим вождям. Но царь не сдержал своего слова: казачьего атамана Илейку Муромца повесили вскоре в Москве; Болотникова и атамана Нагибу отправили в Каргополь, где тайно утопили. В живых остался только атаман Юрий Беззубцев, который по документам 1609 года упоминается в качестве “атамана донских казаков”, действовавших в составе отряда гетмана Рожинского, а в 1611–1612 годах участвовал в освобождении Москвы от поляков[133].
18. Выборы царя и участие в них донцов. 1613 год
Интервенты и самозванцы были разгромлены и вышвырнуты из России. Разоренная страна готовилась выбрать себе государя, чтобы начать возрождение порушенной жизни. В выборах государя Всея Руси, акте государственной важности, донские казаки сыграли выдающуюся роль …
… В начале 1613 года в Москву “на собор всей Русской земли” съехались представители всех сословий и социальных групп России для избрания нового государя. Были здесь и казачьи делегаты во главе с атаманом Феофилактом Межаковым.
Вокруг кандидатур нового царя развернулась интенсивная борьба между различными группировками бояр, дворян, прочих сословий, стремившихся выдвинуть своего ставленника. Но единодушно всеми были отвергнуты кандидатуры польского и шведского королевичей: на престол российский решили ставить “природного русского государя”. И вот тут разгорелись споры.
В числе претендентов на трон считались князья Пожарский и Голицын, Воротынский и Мстиславский, но ни одна из кандидатур не набрала нужного количества голосов. И тут “какой-то дворянин из Галича, – пишет В. О. Ключевский, – откуда производили первого самозванца, подал на соборе письменное мнение, в котором заявлял, что ближе всех по родству к прежним царям стоит М. Ф. Романов, а потому его надобно выбрать в цари”[134]. Однако, старое родовитое боярство высказалось против Михаила Романова, раздались сердитые голоса – кто принес это писание? И в этот напряженный момент из рядов донских представителей на соборе вышел атаман Межаков и, подойдя к столу, положил на него свое “писание”.
– Какое это писание ты подал, атаман? – спросил его князь Дмитрий Пожарский.
– О природном царе Михаиле Федоровиче, – ответил Межаков.
“Этот атаман, – замечает Ключевский, – будто бы и решил дело: “прочетше писание атаманское и бысть у всех согласие и единомыслен совет”, – как писал один бытописатель, Михаила провозгласили царем”[135]. “Писание” это, по мнению некоторых историков, являлось “родословной записью Михаила Романова”, в которой подтверждались его приоритетные права на русский престол. О том, что донцы сыграли решающую роль в выборах нового государя, говорили тогда многие. Польский канцлер Лев Сапега сообщил отцу Михаила Романова митрополиту Филарету, находившемуся в польском плену и жившему в доме Сапеги: “Посадили сына твоего на Московское государство одни казаки-донцы!” Избрали нового государя, конечно, не только донские казаки, но голос их на выборах был довольно весомым.