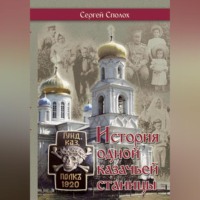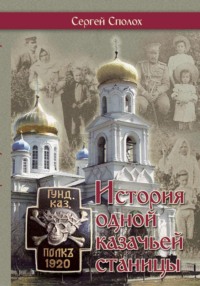Полная версия
Казак на чужбине
Да. И вот, что скажу казачки, пробовали мы в речке местной Лабуньке рыбу ловить. Наловили, уху сварили. Да не та уха! Нет в ней ни духа, ни жирка донского.
И землю мы польскую до самой австро-венгерской границы чуть ли не носом пропахали. Ничего, так себе землица. Где получшей, чем у нас, а в основном, пески как по левому берегу Донца от Луганской станицы и ниже, хоть в Митякинской, хоть в Гундоровской. Одно скажу: чужбинка, она и есть чужбинка. Ни уюту, ни приюту… Да совсем скоро все сами увидите.
Молодые казаки, послушав такие речи, сначала смирнёхонько притихли, но потом, приметив совсем добрый вид вахмистра, завеселились, стали подшучивать друг над другом, пихая один другого в бока и рассказывать байки о своей, по их словам, выходившей совсем уж разгульной до призыва на действительную службу, жизни.
Антон Швечиков и Сергей Новоайдарсков, друзьяки с детства о себе предпочитали помалкивать и больше слушали других. Но вот уж у кого совсем рот не закрывался, так это у их хуторянина, Брыкова Устима, казака переростка, болтуна и балагура, снаряженного на военную службу по бедности за станичный кошт. Ему давно было приклеено хуторским обществом прозвищем Дык-Дык.
Смолоду, в ребятишках, его окрестили так за то, что он при своем лёгком заикании, прежде чем что-то сказать, вставлял как навязчивую присказку вместо слова «так», обязательное словечко «дык».
Скуластое лицо его запоминалось потому, что на верхней губе от зимних детских игр остался косой, весьма заметный шрам, впечатанный коваными полозьями тяжелых самоделковых санок, которые с большого разгона угодили в него, когда он катался с крутых заснеженных станичных бугров над Донцом. При разговоре с Устимом собеседнику казалось, что он всё время кривится и ничему не верит. Словно в отместку и ему на слово никто и никогда не верил. Одно только и слышали:
– Дык, правду я толкую…
– Дык, оно на самом деле так и было…
– Дык, верить мне надо…
Услышав подавшего голос Дык-Дыка, с верхнего яруса вагонных нар ему прокричали:
– Ну-к, надычь нам, да чего-нибудь да посмешнее!
– Дык, я вам что скажу, могёт служба у меня пойдет получшей, чем хозяйство.
Всем своим видом он многозначительно намекал на опыты, что они вместе с отцом, что ни год, ставили в своем небогатом подворье. То зверушек, невиданных и редких по меху, пытались первыми в станице развести, то, прослышав, что хорошую цену дают за перепелиные яйца, перепелов.
Или в один год, вместо привычной пшеницы, где-то узнав о больших прибылях, стали сеять лён. А он возьми да высохни весь на корню и даже на солому не сгодился. По этой то причине беспросветной бедности, а хуторской атаман добавлял постоянно от себя, что и по причине беспросветной дурости, был Дык-Дык снаряжен на службу за станичный кошт.
– Могет быть и медальку заслужу за какие-либо отличия, – размечтательно закатив глаза, трепался в надежде на внимание окружающих Дык-Дык.
– Как твой дед, что ли?
– А что, как и дед Пантелей! Он помощником у атамана по конно-плодовой части был. Табунщицкая служба хоть и внутренняя, а дюже нужная. За усердие и беспорочную службу медаль заслужил от Войскового правления.
А из глубины вагона под сдержаный молодой хохоток доносится:
– Да не по конно-плодовой части помощником у атамана его нужно было назначать, а по бабско-плодовой части, да жаль, что в войсковом правлении такой должности не придумали. Что ни байстрюк в станице то – обязательно Пантелея копия.
И тут шутник, перекатившись на удобный для рассказа бок, подперев голову рукой, после короткой с Дык-Дыком перепалки, начинает свой рассказ.
Когда года у деда Пантелея уже под семьдесят взошли, как опара у хорошей хозяйки, он даже и тогда ни одну казачку на улице не пропускал, всё норовил оценить её взглядом, да проходя мимо зацепить словом. И всегда причина для разговоров у него припасена и ласковые, добродушные взгляды, никогда не переводились!
Вроде со стороны и казалось, что пожилой и почтенный человек втолковывает молодайке, как хозяйство вести, подсказки даёт, или помощь свою в чём-то предлагает. Все прилично и по-людски. Но это только со стороны… Знающие Пантелея люди понимали, о чём вёл свои неторопливые беседы неугомонный и не желающий стареть дед… Стариковское-то время куда более считанное, чем парубковское…
Понесла ему как-то бабка узелок с едой в конюшню, где он справлял свои обязанности помощника атамана по конно-плодовой части. Но сделала она это в неурочный час, поторопилась, значит. Может не с той стороны на ходики в курене посмотрела, а может и не смотрела на них вовсе, а по старинке по дубкам, на глазок время определила. Да только когда пришла она на станичную конюшню, то застала в стожке своего деда с молодой вдовой. Той самой Прасковьей, которая из-за конно-народных скачек в станице Митякинской потеряла мужа своего, Мирона.
Бабка, увидев такое бесстыдство, в беспамятстве схватила стоящий у входа старый держак от лопаты и – по спине деду. То ли спина у деда оставалась крепкой, то ли держак был старый, да только он пополам разлетелся, и гнала бабка эту парочку обломком инвентаря до самого Донца.
После этого дурного случая, прославившуюся вдовушку, которая в своем вдовьем кутке и так слыла не сильно крепким характером по части отказов мужской половине населения хутора, соседки злорадно, с неиссякаемым даже на миг любопытством допытывали:
– Как там, с дедом то, сладко?
Она от их расспросов, как от назойливых мух, слабо отбивалась:
– Отстаньте вы, бестолкуши полоумные! Ни к чему дед не приладился. То стожок на нас случайно ветром опрокинуло, а тут его бабка заполошная! Хорошо, что хоть с держаком от лопаты, а не с вилами.
– А ветер то откуда? Какой день уж затишок был? – хихикали бабы.
– Да с балочки, с балочки…
– А говорили, дед Пантелей на покосе только грабарем и справлялся, сил, мол, на большее не хватало. А оно вон, какое дело!
И тут на весь вагон дружный хохот молодых пружинистых глоток. Ай, да развлечение! Кто рифмы всякие про деда Пантелея стал употреблять, кто и похабные слова, да по второму кругу деда Дык-Дыка с пониманием дела обсуждать.
Но Дык-Дык, чтобы с себя переключить досаждающее ему внимание, сразу накинулся на соседа, утирающего тыльной стороной загорелой руки выступившие от хохота на глаза слезы:
– А ты что скалишься? Небось, забыл, как к каменным бабам сватался?
И даже те, кто эту историю не раз уже слышали стали подбивать Дык-Дыка, требуя от него рассказа:
– Ну-к, давай, замолаживай, хоть при веселье доедем.
Ну, а тот, понятное дело, и рад стараться.
Обведя в темноте вагона глазами небывалое для него количество слушателей, и почувствовав всю важность выпавшей ему удачи, Дык-Дык основательней уселся на нижней вылощенной лавке, поерзал по ней задом, потеснив сгрудившихся вокруг охочих до рассказа казаков, и набрав в легкие побольше воздуха почти торжественно начал…
Вокруг хутора Швечиков, как вечные часовые застыли каменные бабы. Грубо высеченные из известнякового камня, с несоразмерно узкими плечами и едва обозначенными вислыми грудями, с глазницами, смотрящими в сторону станицы Каменской, откуда каждый день всходило солнце, они испокон веков выполняли у казаков роль ориентиров при межевании земли, да солнечных часов для пастухов в степи.
Когда кто-то из молодых казачков, дуркуя, решил поглумиться над одной из фигур и набросил ей на невозмутимое подобие каменной головы ведро с остатками извести, то об этом недобром надсмехательстве, сразу же узнал хуторской атаман Тимофей Богучарсков.
Получивший во время русско-японской войны высокую награду – знак отличия военного ордена Святого Георгия за участие в казачьем походе на Инкоу, он пользовался большим авторитетом у хуторян. Те, уважая его твёрдый и разумный характер, побаивались и слушались Тимофея.
Громадная, плотная, почти двухметровая фигура статного атамана была словно высечена из одной такой же глыбы, как и каменные изваяния в степи. Георгиевский крестик казался совсем крошечным на его широченной груди. И хотя телесные наказания на Дону давно были отменены, никто из хуторян и никогда не роптал, когда хуторской атаман в сердцах хлестанет нагайкой неисправимого пьяницу и дебошира. Или соседей по паям, поспорившим из-за межи, кулачищами раскидает каждого на свой пай, а то и не найдя других способов убеждения, сшибет разгоряченными лбами сквернословов на майдане. Атаман был всегда убедителен и справедлив.
Старики у хуторского правления поговаривали:
– За дело пусть и силу применит, раз иные словесно не понимают…
Хуторской атаман, хорошо зная своих подопечных, без малейшего труда установил, кто это озорничал с каменными бабами в степи, вызвал его к себе и строго стал укорять:
– Вера не наша, время не наше и люди, наверно, были не нашим обличьем, а беречь эти древние статуи надо.
Не стал атаман силу к нарушителю общественной нравственности применять, хоть виновник уж очень сильно этого боялся.
Приговор хуторского общества был прост: не только обезображенную фигуру отмыть от извести и вековой грязи, но и другие в надлежащий порядок привести. И ходил по степи проклинавший себя за глупость молодой казак Щепотков Федот, и тёр каменные изваяния старой мешковиной, не смея ослушаться атамана.
Наблюдавшие за ним хохотуны при этом кричали с соседних бугров:
– Потри, потри ей и спинку, и особливо переднюю часть! Может, если не тебе, так ей точно захочется.
В вагоне снова оживление и смех:
– Да! Посватался, посватался знатно! А глядишь, как в сказке, понравился бы Федот какой-нибудь из этих каменных баб, она б ему тайну то и открыла, где золотишко скифов да сарматов закопано. Откопал бы золото – и враз богатеем стал. Побогаче самого Карапыша, лавочника нашего хуторского.
– Размечтались! Будто, клады у нас в степи под каждой каменной бабой закопаны! Как бы не так!
Вахмистр Власов, с интересом слушавший хуторские байки и небылицы и, наконец, вспомнивший о своем начальственном положении, вступил в разговор:
– Как говорится, в таких случаях – главный клад в голове. А сейчас – порядок в вагоне, всем спать! Остановок больше до самого Замостья не будет. А там… – и он сделал паузу, – а дальше вы вряд ли у меня, так как гуси, погогочите.
Глава 4
Ранним утром воинский эшелон с новобранцами Первой Донской казачьей дивизии прибыл на небольшую польскую станцию Замостье.
Паровоз, натужно тянувший за собой воинский эшелон, проскочил железный мост через небольшую, но бурливую речку Лабуньку.
Эшелон повторил своим многовагонным изгибом очертания старой крепости, разбросал напором воздуха охапки желтых листьев возле пристанционных построек и при столь долгожданной казаками остановке, своим скрежетом на мгновение заглушил приветственные звуки духового оркестра музыкантской команды.
Вахмистр Власов, как только вышел из вагона, сразу преобразился. Своё дорожное благодушие и весёлость словно спрятал за обшлага шинели. И без того тонкие губы поджал для строгости и своим мощным басом стал прессовать нестройные ряды новобранцев:
– Не мни ряды! Не жмись к вагонам! Чего оглядываешься? Мамка в станице осталась!
Урядники, сбившиеся в кучку у писарского столика на небольшом перроне, переговаривались, разминая ноги после длительной поездки:
– Ну, Власов в крик опять, до самой австрийской границы его команды, небось, слышны.
– Да пусть! Пусть австрияки побаиваются.
К урядникам подошел хорунжий Вениамин Шляхтин, молодой офицер, только что выпустившийся из Николаевского кавалерийского училища. Высокий, стройный, красивый во всём и везде, он сразу обратил на себя внимание прибывших новобранцев.
– Гундоровцев много? – спросил Шляхтин у писаря.
– Почти на две сотни наберется, – прикинув по спискам, доложил ему писарь Михаил Фетисов.
– На две сотни, говоришь? Хорошо! Мне командир полка поручил присмотреть для знамённого взвода самых лучших по виду и по росту.
– Ваше Благородие! Я таких со станицы присмотрел, – и он начал перечислять фамилии казаков, подходивших для знаменного взвода.
Шляхтин записал в маленький блокнотик с привязанным на шнурке удобным карандашиком, перечисленные писарем фамилии и пошёл знакомиться со своими будущими подчиненными.
Обладатель фамилии, которая была весьма созвучна польскому «шляхтич», он за несколько месяцев службы стал всеобщим любимцем полка. На офицерских скачках взял первый приз… На балу в большом зале замка графов Замойских, без труда получил приз полковых дамских симпатий. А уж сколько тайных, невысказанных симпатий завоевал он у замостьинских гимназисток! Шляхтин каждое утро проходил мимо гимназии на службу по полукруглой каменной мостовой, которая вела к штабу Десятого Донского генерала Луковкина казачьего полка. Это было совсем необязательно… Был путь гораздо короче и быстрее, мимо католического костела. Но ежеутренне Шляхтин доставлял себе, не сравнимое ни с чем, удовольствие, ловя лукавые и восхищенные, выправкой молодого русского офицера, взгляды заприметивших его постоянный маршрут гимназисток.
В свою очередь, Шляхтин и сам косил взглядом на окна первого этажа гимназии: не выглянет ли оттуда приглянувшаяся ему кучерявая и голубоглазая красавица учительница Зося, молодая особа с исключительно тонким художественным вкусом, картины которой уже выставлялись в офицерском собрании полка.
Сейчас Зося стояла на перроне возле зала ожидания замостьинского вокзала вместе со своей старшей сестрой. На плече у нее висел небольшой, изящный мольбертик и самое время было для хорунжего Шляхтина подойти и заговорить. О картинах, об этюдах на пленэре, блеснуть своей небольшой художественной эрудицией. Но, увы! Гордые шляхтичи держали Зосю в строгости, и рядом с Зосей – старшая сестра, а рядом со Шляхтиным – начальник штаба полка войсковой старшина Гончаров. Не до разговоров тут.
* * *О происхождении своей фамилии молодой хорунжий Вениамин Шляхтин любил рассказывать с толком и расстановкой. В основе семейной легенды лежала реальная история, произошедшая в далекие времена. Она гласила, что через юрт станицы Гундоровской с незапамятных времен пролегал скотопрогонный шлях, а его предок, в те самые времена, был смотрителем этого скотопрогонного шляха.
Оно как было… Если плохо содержится шлях и, не дай боже, сломает неразумная скотина ногу, тут же владелец скота в претензии:
– Так, мол, и так, за прогон скота платим, а моя скотина ноги ломает!
Приходилось станичному правлению принимать эту скотину с ломаными ногами. Забивать в силу негодности и перевешивать на безмене – на сколько пудов тянула эта жертва плохих дорог, а затем – направлять на нужды станичного общества.
Однажды смотритель скотопрогонного шляха заметил, что у одного и того же скотовладельца, постоянно то бык, то корова ломала ноги. Засаду устроил, и что ж высмотрел…?!
Дотошный смотритель шляха углядел, что как только скот переправляли через Северский Донец, ушлые хозяева отбирали одну из самых доходяжных скотинок, в прибрежный лесок заводили и ногу обухом топора переламывали. А затем посылали в хутор за атаманом, выведя предварительно эту скотину на дорогу. Так эти прогонщики освобождали себя от оплаты станичных услуг деньгами и избавлялись от плохой скотины.
После смотрителей скотопрогонного шляха пошли в роду Шляхтиных военные. Как только открылось в Новочеркасске юнкерское училище, одним из первых из станицы Гундоровской поступил туда дед Вениамина Шляхтина – Михаил.
В русско-турецкой войне 1877–1878 года он отличился в бою при форсировании Дуная. Затем командовал казачьим полком первой очереди и, разумеется, уже по своим стопам, продолжая семейную традицию, отправил в то же Новочеркасское юнкерское училище своего сына Якова. На долю Якова воевать не выпало, и почти всю свою службу от сотника и до полковника провел он в окружной станице Каменской.
Но сына своего Вениамина, после окончания им Николаевского кавалерийского училища Яков Михайлович, наставлял:
– В штабы не забивайся, в полку не засиживайся. Усердие в службе проявляй. Будь на виду, но не высовывайся. Начальству при случае и в меру угождай, друзей по офицерской службе выручай. И главное, сын, не играй в карты, они столько блестящих офицеров сгубили!
Но, как говорят в народе, сын то мой, а ум у него – свой! Не учел мудрый отец, вырастив такого красавца, в этом длинном списке жизненных ошибок самую главную и распространенную ошибку молодых хорунжих – женщин. Вот именно к женщинам хорунжий Шляхтин был страсть как сентиментален и, потому, неравнодушен. И до такой степени, что эта сильная тяга к прекрасному полу могла запросто сгубить этого ещё неопытного начинающего ловеласа Шляхтина.
* * *Наконец, после небольших проволочек молодое пополнение уже было разбито по рядам. Толкотня и разговоры прекратились.
– Р-р-равняйсь! Смирно! – вахмистр Власов зычно гаркнул на привокзальной площади, да так, что с тополей вмиг взлетели все вороны.
– Молчать! Р-р-азговорчики! Шагом мар-р-р-ш! – и погнал молодых казаков по их первой дороге военной службы, к первому в жизни военному дому – казарме учебной команды.
Колона вздрогнула, подалась сначала вперед, затем, как бы раскачиваясь назад, и мерно колыхаясь, поползла по направлению к Замостью, старинному польскому городку, где предстояло служить Антону Швечикову и его станичным и хуторским друзьям.
Во время долгого пути, сопровождавшие пополнение урядники, рассказали, что казармы полка расположены в старом, разрушенном во время польского восстания 1831 года здании католического костёла.
Костёл со старой и разрушенной крышей даже издали показался будущим постояльцам мрачным и серым. Он, похожий на старого растерянного человека, потерявшего свою шляпу, никак не вязался по виду с красными, и оттого нарядными черепичными крышами этого небольшого, как бы игрушечно-пряничного городка, с нарезанными, как рождественский пирог, прямыми и очень узкими улочками.
Двух и трёх этажные домишки, плотно стояли в ряд, и словно осенние опята прилипли друг к другу. Местные жители, спешившие по своим делам, привычно и равнодушно разглядывали вползающую в городок ленту казачьей колонны.
Когда казаки из команды молодого пополнения загремели сапогами по растресканым каменным полам казарменных коридоров, Антон Швечиков, рассматривая небо в стрельчатых окнах бывшего собора, сказал своему закадычному другу Сергею Новоайдарскову:
– Место – то намоленное, жить здесь, небось, грех. А если б в нашем Успенском храме вот так кто-нибудь поселился, а? Как бы станичники на это посмотрели? Вот то-то и оно!
– Плохо бы посмотрели, – ответил не менее набожный Сергей.
Подслушав эту гутарку отделенный урядник Просцов Константин, хлопотавший с размещением учебной команды, и которому тоже было не по душе присутствие чужой веры, сердито перебил друзей:
– Если и грех, то не ты первый, кто здесь так грешит. Тут еще мой отец после русско-турецкой войны служил, а было это, почитай, лет тридцать тому назад. А грехи, парень, пойдешь замаливать в православный храм, а вернее, строем поведут в первое же воскресенье, – и он махнул рукой в сторону небольшого деревянного храма, приютившегося у желто-зеленого островерхого леска над речкой Лабунькой.
* * *Для занятий по словесности и Уставам Российской Императорской армии с казаками молодого пополнения был назначен их земляк сотник Исаев Филипп Семенович. Командир полка знал, что при нахождении на льготе с разрешения окружного войскового начальства сотник Филипп Семенович Исаев преподавал в школе станицы Гундоровской и полковник Краснов Пётр Николаевич обратился к нему с просьбой:
– Филипп Семёнович! Вы уж поучительствуйте с этим молодым пополнением две-три недели, да только помягче. У кого-кого, а у вас это получится. Пусть сначала привыкнут к службе, а уж потом урядники да вахмистры со взводными дожмут.
Прежнее учительство так и сквозило в облике и в поведении совсем не военного сотника. Никак не глоткой, а терпеливым убеждением пытался он добиться повиновения от казаков. И порой, его неодобрительный взгляд, был куда большим наказанием, чем получасовой разнос со словесными казачьими разносолами от командира соседней сотни.
Особым предметом гордости у сотника Исаева были усы. Ухаживал он за ними каким-то особым способом. Молодых казаков, только заводивших усы, по началу действительной службы, он мягко наставлял:
– Сей атрибут – не предмет туалета и не путь к сердцу дам, а казачья гордость! И носить их нужно с особенным шиком. А уж кто из вас шика по отношению к усам не имеет, тот пусть их и не носит.
Сам Исаев еще хорунжим научился редкому, а потому интересному способу следить за своими холеными усами при каждом удобном случае.
Он полировал козырек фуражки, да так, что в него можно было смотреться как в зеркало. Со стороны было даже трудно определить, чем занимается офицер: то ли усы рассматривает, то ли фуражкой любуется.
Совсем рано, как только Исаеву за тридцать минуло, усы подернулись очень расстраивающей сотника сединой. Но если они приняли седину ровно и сразу, то седину в буйную шевелюру казачьего офицера, словно кто-то разбросал щепотками, как мелкую соль. А вот брови так и оставались чёрными, будто две смоляных дольки над проницательно-добрыми серыми глазами.
Сегодня, в день поздней осени 1913 года, бывшему станичному учителю Филиппу Исаеву предстояло растолковать молодым казакам значение вступительных статей Устава внутренней службы Русской Императорской армии. Молодые, только что прибывшие из родной станицы Гундоровской казаки, шелестя затертыми страницами, вразнобой раскрыли первые страницы, лежащих перед ними уставов.
Антон Швечиков, сидевший на всех занятиях в паре с задушевным другом Сергеем Новоайдарсковым, толкнул отвлекшегося односума локтем.
– Ну, казачки, – раздается в классе вопрос сотника, – есть кто из вас охотники готовые по-уставному сказать, что такое наша Отчизна и что такое наша родина?
На лицах казаков учебной команды вроде бы полное понимание этого несложного вопроса, но высовываться никто не торопится.
Дык-Дык демонстративно ёрзает на своей табуретке больше всех, теребит устав и всем своим видом показывает, что даже готов отличиться.
Исаев, заметив беспокойство казака, сразу же предлагает:
– Казак Устим Брыков, отвечай!
Дык-Дык, заранее прислонил устав к спине впереди сидящего, кося глазом и заглядывая в книгу бойко начинает:
– Параграф третий Устава Внутренней службы гласит:
«Отечество – это вся Россия. Родина – это тот округ, та губерния, тот уезд, та волость и деревня, станица и хутор где родился».
Сотник, немного удивленный столь чётким ответом, прозвучавшим от казавшегося всего лишь балагуром, казака Брыкова, добавляет для конкретности:
– Ну, а ты, казак, где родился? Где твоя родина?
– Хутор Швечиков, Гундоровской станицы, Донецкого округа, Области Войска Донского.
– Молодец! – удовлетворённо похвалил сотник молодого казака Брыкова, который откликался на свою фамилию разве, что на занятиях, да в строю. А так Дык-Дык, и все тут.
Сотник продолжил занятие.
– Теперь я вам расскажу об истории нашей с вами родины, – и он раскрыл лежавшую перед ним на высоком некрашеном столе большую потрепанную, с загнутыми и замахренными, от частого применения углами тетрадь, в чёрном коленкоровом переплете.
Во время своего вынужденного учительства Филипп Семенович занялся изучением истории станицы. Даже съездил в Донской архив в Новочеркасск и посидел над старыми книгами и прошнурованными большими делами.
Всё, что он из них узнавал и вычитывал новое, записывал в большую тетрадь в чёрном коленкоровом переплете, а возвратившись из столицы Донского войска, вечерами пересказывал своим домашним. Когда сотник Филипп Исаев снова был призван с льготы в Десятый Донской казачий генерала Луковкина полк, то первое, что он взял с собой на службу, так именно эту тетрадь.
– Станица Гундоровская признана как казачье селение согласно старинной грамоте, в которой в старом словесном сложении было записано:
«Ведомо вам, атаманы-молодцы, будет в нынешнем в 7189 г., генваря въ 3 день…, били челом великому государю и великому князю Федору Алексеевичу всея великия, и малыя и белыя России самодержцу, в кругу словесно из Кагальницкого городка Михайло Иванов, да Ведерникова городка Иван Медведь, Аника…, а в словесном своем челобитьи сказали, чтобы им великий государь пожаловал и велел им занять юрт Гундоровской. И по указу великого государя и по нашему войсковому приговору, мы, Всевеликое Войско Донское, велели ему, Михаилу Иванову, с товарищами в Гундоровском юрту поселиться и станицу собрать, сколько им угодно, чтоб прокормиться».
– Вот так, казачки. Год в этой грамоте указан по допетровскому летоисчислению, а это означает, что с января 1681 года наше казачье поселение ведет свою историю. История у станицы богатейшая… Жаль только, что казаки в ней не очень богато живут.