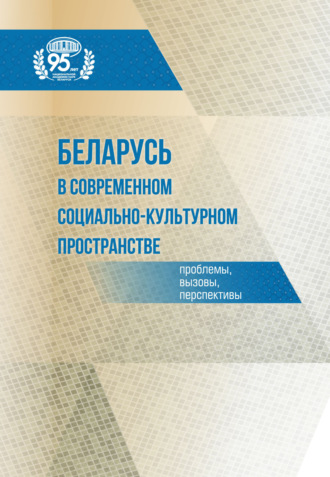
Полная версия
Беларусь в современном социально-культурном пространстве: проблемы, вызовы, перспективы
Позже духовное становление человека, начиная с раннего детства, стало основой целенаправленного воспитания и образования со стороны семьи и школы, а сами школы превратились в своеобразные центры культуры различных поселений. И то, что современная семья и школа, как и все общество в целом, из социальной и духовной общности постепенно вновь превращаются в социальный институт, в социум, основной ценностью в котором становятся права человека, не есть выражение каких-либо объективных закономерностей развития техногенного общества. Как само это общество, так и его право не есть лишь политический или юридический проект, заменяющий естественное право правовым законом. Они выступают своеобразным атрибутом современной социально-культурной реальности.
К таким выводам побуждают нас проведенные ранее социологические исследования и их философское осмысление. Эти исследования изначально были ориентированы на социально-культурные различия основных регионов Беларуси, впервые вскрытые и проанализированные сотрудниками Института этнографии и фольклора НАН Беларуси. Они и послужили в свое время основанием для расчета многоуровневой республиканской квотной выборки для сравнительного социологического исследования проблем жизненного самоопределения учащейся молодежи, проведенного в два этапа в 1991–1992 и 1996–1997 гг. отделом социологии Национального института образования Беларуси под научным руководством А. И. Левко.
Логическая программа данного исследования была изначально ориентирована на феноменологию жизненного мира и выяснения его многообразия в Беларуси. Однако выявилось, что жизненное самоопределение молодежи и ценностные ориентации, на которых оно основывается, не связаны лишь с пирамидой потребностей личности, в основе которой лежат естественные стимулы, а на вершине стремление к творческой самореализации. Они определяются самим образом жизни людей, характером их взаимодействия с природой и обществом и принципиально различаются, прежде всего, в направленности на коллективную духовную идентификацию и личностную самореализацию. При этом выявилось, что личностная самореализация и общественная мораль не вырастают из структуры самих потребностей. Например, в регионе «Понемонье», совпадающем в основном с Гродненской областью, либерально-демократическая ориентация, характерная для Западной Европы, и хозяйственная этика «хутора» оказались доминирующими. В регионах же Восточного и Западного Полесья, наоборот, они становятся неприемлемыми и даже противоположными своей направленностью не на личность и пирамиду ее потребностей, а на социальную общность, соборность, духовность и коллективизм. В центральной же Беларуси, ее столице и областных городах основополагающим фактором жизненного самоопределения является сама экономика или экономическая жизнь региона. При этом формы данной самореализации принципиально различаются в различных типах поселений, например, в деревне и городе, больших и малых городах.
История распорядилась так, что восточную часть Беларуси постоянно сопровождало сильное влияние соседней России. Гродненскую, Вилен-скую и Минскую области еще в середине ХIХ в. сами же россияне называли Литвой или ее историческим названием. Регион же белорусского Полесья всегда был относительно самостоятельным и в одно время имел даже политическую и экономическую автономию. К тому же восточная часть республики с 1922 по 1939 г. входила в состав Советского Союза, а западная – в состав буржуазной Польши. Понятно, что социалистические преобразования были значительно более глубокими на востоке, чем на западе. Регион же белорусского Полесья, в силу своих природных особенностей, оказался меньше всего подверженным политическим и экономическим преобразованиям. Он сохранил исторические социально-культурные особенности, которые своими корнями восходят к старославянской и ятвяжской культурам.
В результате в этих регионах сложился свой особый менталитет населения. В восточной и центральной Беларуси этот менталитет в большей мере основывается на внешней экономической зависимости, в то время как в белорусском Полесье – на общинных социально-культурных традициях, а в западных регионах – на традициях автономного (хуторского) образа жизни и индивидуально-ориентированной западной культуры. Региональный менталитет является как бы связующим звеном между традициями национальной культуры проживающих здесь представителей других народов (русских, поляков, евреев и т. д.) и коренным населением, или, вернее сказать, превращающих их в представителей коренного населения. Например, евреи, численность которых в белорусских городах по переписи конца ХIХ в. достигала 70 % проживающего здесь населения, сохраняли ментальную региональную и поселенческую специфику, наряду с языком, ценностями и нормами своей национальной культуры. При этом белорусский язык они осваивали раньше идиш или своего родного языка. В связи с этим среди классиков белорусской литературы есть и представители данного народа. Различна оказалась и социальная структура этих регионов, плотность проживания здесь населения и уровень экономического развития.
Восточная и центральная часть Беларуси относятся к наиболее густонаселенной территории с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития. Основная часть населения здесь живет в городах. Количество промышленных рабочих в этом регионе значительно превышает количество крестьян. К тому же и сельское население здесь сконцентрировано в основном вокруг городов. И эта особенность существенно отражается как на культурном уровне населения, его образовании, профессиональной ориентации, так и на материальном положении семьи и ее ценностных ориентациях. Это обстоятельство во многом определяет здесь сам процесс жизненного самоопределения молодежи. Все здесь подчинено экономическим обстоятельствам, и сама по себе личность могла делать выбор только в жестко ограниченных рамках. Направление ее жизни определялось существующим в регионе разделением труда. Заранее было известно, что после окончания школы ее выпускники вольются в коллективы местных промышленных предприятий. О своей трудовой карьере можно было особенно не заботиться. А это чаще всего отрицательно сказывалось на самостоятельности людей, их духовности и умении самим осуществлять свой нравственный выбор, самим распоряжаться своей жизнью.
Продолжительная борьба с православной церковью и религиозным мировоззрением еще более усугубили ситуацию.
В регионе белорусского Полесья экономические обстоятельства не привели к большим изменениям в самосознании людей. Городов здесь немного и, как правило, они не столь многочисленны и людны, как Минск, Витебск, Гомель, Могилев. Самые большие города здесь Брест, Пинск и Мозырь. К тому же промышленность в этом регионе развита меньше. Заболоченность земель и леса не позволяли здесь сделать значительный сдвиг в развитии сельского хозяйства, несмотря на создание ряда совхозов и колхозов на осушенных землях. К тому же воздействие государства на весь уклад жизни уже в силу природных условий всегда был меньшим. Социалистические преобразования в восточной части белорусского Полесья и воздействие со стороны буржуазной Польши, в состав которой входила его западная территория, не привели к значительным изменениям в самом образе жизни. Здесь сохранились традиции и обычаи, православная вера, которых придерживались местные жители на протяжении веков.
Традиция в данном случае культивируется многими семейными устоями, ее духовной атмосферой. К тому же семьи здесь и до настоящего времени наиболее многочисленные, чем в любом другом регионе Беларуси. Они насчитывают по трое и больше детей, что давно – редкое явление в восточной и центральной Беларуси. Во многом сохранились на Полесье и традиции былой патриархальной семьи, основанные на определяющей роли в семье отца. Развитие индивидуальности и самодеятельности личности в этой местности никогда не приветствовалось. Это вступало в противоречие с нормами исторически сложившегося образа жизни. Поэтому всякое стремление выделиться всегда высмеивалось и осуждалось общественным мнением. Духовное начало не только на исторической родине Ф. М. Достоевского (Ивановский р-н Брестской обл.), но и всего Западного Полесья всегда было преобладающим по отношению к материальным потребностям.
В силу этих и других обстоятельств самоопределение молодежи Белорусского Полесья всегда было проблемой. Оно значительно усложнилось и отсутствием рабочих мест, учебных заведений, замкнутым образом жизни, отсутствием инициативы принимать самостоятельные решения. Выйти за рамки существующей традиции здесь всегда было трудно.
Этого нельзя сказать относительно жителей остальной части Западной Беларуси и прежде всего Гродненщины. Хуторская система, которая сохранялась здесь долгие годы, как раз и вынуждала сельского жителя думать и действовать самостоятельно. А если принять к сведению, что данный регион в основном сельскохозяйственный, то становится понятным, что самостоятельность является основной чертой характера местного населения. Она имеет также и значительную духовную основу в виде культурного воздействия со стороны соседней Польши и Западной Европы, религиозного мировоззрения, воздействия католической церкви. Самостоятельность жизненного самоопределения молодежи в данном регионе республики подразумевается сама собой. Она как бы запрограммирована в самой личности учащихся общеобразовательных школ и других учебных заведений, но не на уровне их естественных потребностей, а в самом ее духовном складе.
Каким образом это сказывается на личностных качествах учеников? Для того чтобы ответить на этот вопрос, сравним качества личности выпускников общеобразовательных школ каждого из регионов. Так, в частности, Гомельский, Могилевский и Светлогорский районы в полной мере могут характеризовать восточный регион республики, а Минский, Копыльский и Чашницкий – центральный, Мозырский, Петриковский и Пинский соответствуют всем основным характеристикам региона Белорусского Полесья. Наиболее типичными для Западной Беларуси являются Гродненский, Вороновский и Браславский районы.
Сравнение жизненной позиции и личностных качеств учеников каждого из регионов на примере типичных для них районов выявило, что в восточных и центральных районах выпускники общеобразовательных школ мало чем отличаются. А вот в остальных регионах их жизненное самоопределение происходит совсем не так, как здесь. Отличия проявляются буквально во всем: в выборе учениками основных направлений будущей трудовой деятельности, в понимании ее ценности для своей жизнедеятельности и развития личности, в мотивах выбора жизненного пути, в понимании меры образования и его достаточности для жизни в данных условиях, в желаемых формах обретения образования в будущем, в различных деловых и нравственных умениях и навыках, в структуре рабочего и свободного времени учеников, в выраженности волевых и нравственных качеств личности и т. д.
Когда, например, в восточных, центральных и западных районах республики 80 % выпускников общеобразовательных школ были намерены продолжить учебу, то в регионах Белорусского Полесья с такой ориентацией составляли 59,4 %, или на 20 % меньше. При определении своего дальнейшего жизненного пути они больше ориентировались на местные традиции, чем личные способности. Примерно в два раза слабее была выражена среди них и ориентация на творческий рост. Жизненное самоопределение, которое выходило за рамки традиции и требовало самостоятельного выбора, рефлексии и осмысления, протекало здесь более болезненно. Особенно это было характерно для профессионального выбора в Гомельском, Могилевском и Светлогорском районах. Выпускники школ, которые еще не определились, кем им быть, составляли здесь в среднем 9 %, а в Мозырском, Петриковском и Пинском районах – 21,5 %. Большие трудности возникали у них и при определении дальнейшего места жительства, чего нельзя сказать о выпускниках общеобразовательных школ западных районов.
Самостоятельность в определении своего жизненного пути среди учеников западных районов является типичной чертой их характера и они, в основном, ориентированы на выбор трудовой деятельности, требующей принятия самостоятельных решений. Так, среди учеников ХI классов Гродненского, Вороновского и Браславского районов, 72,5 % которых проживали в сельской местности, 51,7 % были ориентированы на самостоятельную деятельность и работу с людьми. В восточных районах 61 % учащихся общеобразовательных школ, которые проживали в Минске и 30 % – в Гомеле и Могилеве. Ученики с такой ориентацией составляли 48 %. В регионе Белорусского Полесья – 44 %. Сама трудовая деятельность учащихся общеобразовательных школ западных районов республики воспринимается как основное условие развития личных способностей, творческого и морального возвышения, а не только как жизненная необходимость и условие профессионального роста.
При выборе профессии ученики здесь больше ориентировались на свои собственные возможности, а не на социальный ее престиж и материальную заинтересованность, как в центральном и восточном регионах страны. Для них куда большее значение имеют приобретение эстетических способностей и навыков, повышение культуры поведения, внутренняя самодисциплина, преодоление самого себя, одним словом, самодеятельность личности. Более высокая была здесь и религиозная вера учеников, основанная на традициях семьи. О том, что они верят в Бога, среди опрошенных учеников Гродненского, Вороновского и Браславского районов заявили 63,3 %; среди учеников Мозырского, Петриковского и Пинского – 37,0 %; среди учеников Гомельского, Могилевского и Светлогорского – 14,8 %, а среди учеников Минска, Копыльского, Чашницкого районов – 12,3 %.
Все это красноречиво свидетельствует о том, что жизненное самоопределение учащихся общеобразовательных школ Республики Беларусь не определяется лишь самой природой транзитивного общества и не может по-прежнему рассматриваться лишь через призму соответствующей профессиональной ориентации молодежи. Наряду с тем, что оно носит дифференцированный характер в зависимости от региона и поселения, в которых находится школа, оно также зависит от половозрастной ценностно-нормативной ориентации. Половозрастная структура – это, прежде всего, соответствующая социально-культурная структура со своими ценностями и нормами, своим духовным обликом и критерием понимания социальной ситуации. Благодаря этому девушки и юноши оценивали условия своего проживания и строили свои жизненные планы по-разному. То, что являлось вполне приемлемым для юношей, очень часто не устраивало девушек.
Это находило свое отражение в критичности оценки ситуации и своих возможностей, в отношении к учебе, в уверенности в достижении цели и т. д. Например, среди тех, кто отметил, что ему неинтересно учиться в данной школе, 71,4 % составляют девушки и 28,6 % – юноши. И объясняется это во многом тем, что юноши более уверены в достижении поставленной цели, да и сама эта цель более приземлена к существующей в данном регионе ситуации. Среди учащихся, уверенных, что после окончания школы найдут работу в своем районе 72,6 % приходится на юношей и 27,4 % – на девушек. И наоборот, среди учащихся, считающих, что не смогут найти работу в своем районе, 66,7 % приходится на девушек и 33,3 % – на юношей.
Отчасти эта уверенность и сомнения определяются самими условиями проживания, особенно в сельской местности, где девушкам трудоустроиться и тем более найти работу по душе гораздо труднее. По этой причине среди мигрантов из деревни в город преобладали в основном девушки.
Все это позволяет не только сделать вывод о том, что общеобразовательная школа республики не может по-прежнему оставаться в стороне от ее этно-национальных, региональных, поселенческих и половозрастных проблем и быть национальной не по форме, а по самой сути. К тому же опора на регионы и их культуру все больше становится основой государственной политики Беларуси и ее национальной безопасности. В силу этого национальная философия постепенно освобождается от абстрактно-схоластической рационализации с ее ориентацией на идеалы глобальной социо-динамики и обретает статус важнейшего фактора общественного развития, мировоззренческой и ментальной составляющей его стабильности. Консолидация и развитие белорусского общества имеют свои традиционные этнические и научные основы в виде исторически сложившейся устойчивой совокупности, отличающейся общими чертами и стабильными особенностями культуры психического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований. Соответственно и опыт их теоретического обоснования не может быть простым заимствованием западноевропейской и американской социальной философии. Философско-мировоззренческие трансформации в суверенной Беларуси и основные направления поиска своей социокультурной идентичности не могут не учитывать особенности белорусского этноса. Обоснование этой тенденции и является одной из важнейших задач данного монографического исследования.
Проблема белорусского этноса напрямую связана не только с техногенной цивилизацией и общественно-политическим строем, но и социально-культурным пространством своего развития, его проблемами, вызовами и перспективами. Иными словами, Беларусь это – не только продукт техногенной цивилизации, трансформация которой определяется лишь временем, техникой, технологией и информацией, но и самим социально-культурным пространством, которое она занимает в Центральной Европе. И это пространство является важнейшей характеристикой как самого общественного развития, так и современных форм социальной и духовной консолидации общества. Ценностные ориентации учащейся молодежи лишь в какой-то мере приоткрывают эту общую тенденцию особенностей социально-культурного развития республики. Однако в какой мере будут учитываться эти тенденции на практике, во многом будет зависеть и от выбора страной культурной политики.
Эта политика представляет собой координацию и регулирование всей культурной деятельности, связанной с сохранением и функционированием исторического и культурного наследия, обеспечением равного для всех доступа к культуре, поддержкой искусства и всех видов творчества, а также с культурным присутствием в других странах и влиянием на них. Национальная культура не может рассматриваться лишь в контексте социально-культурных трансформаций культуротворчества. Да и проблемы самих модернизирующихся обществ не могут опираться только на ценностно-смысловые и практико-ориентированные формы этого творчества, а также сформировавшуюся культурную традицию. Народ, наряду со своей этнической идентичностью, обретает свою национальную идентичность только в результате обретения политического суверенитета страны. И национальная культура не является тому исключением. В ней могут быть представлены различные этносы, и объединяющим началом их культурного многообразия выступает само государство и его политика.
Однако национальной эта политика становится не в силу одной лишь ориентации на национальные интересы, выражающие ту или иную политическую идею, а в первую очередь в силу ее ориентации на национальные символы, национальный менталитет, национальную культурную идентичность, самобытность и самодеятельность. Именно в них и обретает свое социально-культурное содержание национальная идея. В философии модернизма, наоборот, сама идея порождает национальную и иную реальность как таковую. В основе реальной политики государства, в том числе и культурной, в первую очередь выражаются особенности и самобытность самой культуры, которая может быть как национальной и социально ориентированной, подобно культурной политике Франции, так и интернациональной и либерально-демократической, как это имеет место в политике США. В одном случае интеграционной основой общества и основным условием консолидации с ним государства выступает этнос и этническая культура, во втором – гражданственность и гражданская культура. Соотношение этнической и гражданской культуры во многом характеризует и культурную политику любой страны.
При либерально-демократической ориентации государства культура рассматривается как результат творчества лишь интеллектуальной элиты, в то время как в социально ориентированном государстве культура связывается в основном с культивированием равных возможностей для творчества всего населения страны через процессы социализации и аккультурации подрастающего поколения, его духовное выращивание.
Мобилизующая роль, например, литературного творчества в развитии национальной культуры как раз и выражается в том, что с его помощью воспроизводится чувственная энергетика и менталитет белорусского народа, духовно-нравственные и другие принципы его образа жизни. Примером тому может быть творчество Ивана Мележа, создавшего художественный образ белорусского полешука, Максима Танка и Владимира Короткевича, создавших образ «западного» белоруса, Кузьмы Чорного и Тишки Гартного, рассмотревших жизнь белорусов на перекрестке цивилизаций. Они и другие белорусские писатели и поэты демонстрируют нам и всему мировому сообществу, что «люди на болоте», «люди хутора» и «социальной общины» есть представители единого белорусского народа, имеющие общую национальную судьбу, не исчерпываемую лишь цивилизационным выбором. И эта судьба, и этот выбор имеют глубокие духовно-нравственные и другие основания, не сводимые лишь к морали трансформационного общества.
В то же время наивно было бы полагать, что сама национальная культура есть лишь материализация идеи культурной, и в данном случае литературной, художественной, технической и другой творческой элиты. Среди этой элиты есть и те, кто государственную идеологию ставил выше социально-культурных реалий образа жизни своего народа, противопоставляя желаемое возможному его духовно-нравственному совершенству в данных условиях. Воля партии и воля народа, идеалы «светлого будущего» и реальные возможности его строительства, как свидетельствует исторический опыт, – не одно и то же.
Выбор страной культурной политики не может не зависеть от ее исторически сложившихся традиций и ценностных ориентаций ее населения. В значительной мере ориентиром этого выбора могут служить и жизненные устремления учащейся молодежи, о которых мы можем судить по результатам проведенного социологического исследования. Согласно им, основными факторами ценностных ориентаций учащихся Республики Беларусь в начале и середине 90-х годов ХХ в. выступало стремление к национальному духовному возрождению, конструктивное стремление к самореализации, ориентация на свое дело, ценности семейной жизни и здоровье. С тех пор, несмотря на усилия средств массовой информации, положение дел существенно не изменилось. В современной Беларуси нет стремления во что бы то не стало отказаться от своего советского прошлого в пользу глобального капитализма, как и от самореализации и индивидуального предпринимательства в рамках социально ориентированного государства и его законодательства.
В качестве же основных факторов, характеризующих население различных типов поселений Республики Беларусь, по-прежнему выступают тип мышления, морально-волевые качества, социально-культурные потребности и потребность в познании. При этом тип мышления и морально-волевые качества жителей областных и районных городов, а также населенных пунктов сельского типа существенно различались. Среди показателей, характеризующих тип мышления жителей областных городов, определяющую роль играют скорость мышления, предприимчивость, предусмотрительность, хозяйственность, умение ладить с людьми, в то время как среди жителей населенных пунктов сельского типа – активность ума, предприимчивость, критичность ума, целеустремленность. Среди жителей районных городов – выдержка и умение владеть собой, умение самостоятельно и независимо принимать решения, умение преодолевать трудности, решительность, настойчивость.
Среди показателей, характеризующих морально-волевые качества жителей областных городов, в качестве основополагающих выступают: требовательность, настойчивость, дисциплинированность, целенаправленность, принципиальность. В то время как среди жителей населенных пунктов сельского типа – умение ладить с людьми, добросовестность, справедливость, выдержка и умение владеть собой, хозяйственность. Среди жителей районных городов – добросовестность, справедливость, настойчивость, дисциплинированность, потребность помогать другим.
Принципиально различаются эти качества у женщин и мужчин. Нравственно-волевые качества женщин характеризуются выдержкой и умением владеть собой, умением ладить с людьми, добросовестностью, справедливостью, умением преодолевать трудности, решительностью, умением самостоятельно и независимо принимать решения, хозяйственностью и целенаправленностью, быстротой мышления. У мужчин – решительностью, целенаправленностью, быстротой мышления, рациональным предвидением, активностью разума, ответственностью и предприимчивостью.
Результаты исследования в свое время были опубликованы в коллективных монографиях «Жизненное самоопределение учащихся Республики Беларусь: опыт социологического исследования» [12] и «Социокультурные факторы формирования личности ученика общеобразовательной школы [13].

