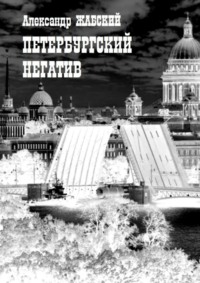Полная версия
Четыре пьесы. Комнатная девушка ■ Так уж случилось ■ Отель «Монплезир» ■ Логика сумасшедшего
ИЛЛАРИЯ. Вы сблизились в таком возрасте?! А что, так бывает?
ДОБРОРАДОВ. Как видишь. А возраст-то тут не причём. Всё дело в здоровье и полноте ощущения жизни. Если человек хвор и жизнь ему не мила, то он и в твоём возрасте ничего уж не хочет.
ИЛЛАРИЯ. Пока я таких не встречала.
ДОБРОРАДОВ. Какие твои годы! Ещё всякого навидаешься.
ИЛЛАРИЯ. А что, правда Ирина предлагала нарожать вам детей?
ДОБРОРАДОВ. Было дело… Но, во-первых, какие дети, если нет любви, потом у меня они уже есть, даже есть и внучок. И, наконец – о каких детях может идти речь в мои-то года. Я ведь их вырастить не успею – а это, девочка, главное в жизни – успеть вырастить своих детей. Я помню, мой отец, он был парализован и девять лет лежал – у него вся левая сторона отнялась, когда мне было только восемь, учился во втором классе. Так вот он всё матери да и всем говорил: дожить бы, когда наш Сидор станет студентом.
ИЛЛАРИЯ. И… что?
ДОБРОРАДОВ. Он дожил! И умер в конце моего первого семестра, перед самой зимней сессией. Но я ведь родился, когда ему было под 60, а мне-то сейчас уж под семьдесят. Нет, бог с тобой, какие дети… Ты что на меня так смотришь?
ИЛЛАРИЯ. Да подумала вдруг, что и я бы смогла. Ирина-то вряд ли – она вертихвостка, а я бы уж точно. Вы такой человек… И дети есть у вас, и внуки, а вы такой при этом одинокий.
ДОБРОРАДОВ. Это сознательно! Я по натуре волк-одиночка – твоя бабушка знает. У меня в самом деле нет ничего, вернее – не было до недавнего времени, до одного чудесного события, когда мою книгу вдруг издали в Америке, она стала бестселлером. Только после этого я смог купить эту квартиру, а прежде у меня не было ни дома своего, ни семьи, ни имущества, ни сбережений. Только я сам со своей крохотной пенсией. Казалось бы, вот убожество, да? А я счастлив! Я прожил замечательную жизнь.
ИЛЛАРИЯ. Счастливы? Почему?
ДОБРОРАДОВ. Потому что всю жизнь занимался только и только тем, что мне нравилось. Это трудно понять…
Доброрадов запинается, подыскивая слово.
ИЛЛАРИЯ. Вы наверно хотели сказать – обывателю?
ДОБРОРАДОВ. Нет, так нельзя сказать, а то выйдет будто я какой-то сам себе небожитель, а подо мной копошатся ничтожные букашки. Это трудно понять людям вообще – и возвышенным, и приземлённым, одним словом, всем, кто не такой, как я и немногие, подобные мне. Мы не лучше других и не хуже, мы просто – другие.
ИЛЛАРИЯ. Я бы одна не смогла. И такая жизнь не по мне.
ДОБРОРАДОВ. И прекрасно! Каждому должно прожить свою жизнь – как он её понимает и сумеет построить. Строй свою – по своему разумению, собственному проекту, твоим личным расчётам и намёткам. Что получится – неведомо, но что бы ни получилось, прожив жизнь, тебя не будет, как и меня теперь, никогда снедать горечь: вот, мол, послушалась кого-то, жила по его плану – ну и дура, а теперь ничего не исправишь. И хоть крюк ищи, как Марина Цветаева. В моей жизни тоже уже ничего не исправишь – но все ошибки, просчёты, нелепости, даже дурости – только мои. И потому я покоен.
ИЛЛАРИЯ. Если б знать наперёд…
ДОБРОРАДОВ. Невозможно. Мы почти все знаем о человечестве, кое-что – о людях и ничегошеньки – о себе.
ИЛЛАРИЯ. А ведь верно! Ох как же это верно, Сидор Изотович… Ничего, совсем-совсем ничего.
Иллария надолго задумывается, а Доброрадов откровенно любуется её одухотворённым, обласканным мыслью лицом, всей её литой статью. Наконец она перехватывает его взгляд, который он не успел, а может и не хотел отвести.
ИЛЛАРИЯ (смущённо). Что вы так смотрите? Вы так смотрели… А почему у вас слёзы?
ДОБРОРАДОВ. Это всегда у меня происходит, когда вижу прекрасное – начинают течь слёзы. Сами собой. В Рембрандтовском зале Эрмитажа, например, в 14-м зале Русского – между «Девятым валом» и «Последним днём Помпеи», да всякий раз, когда нечто надчеловеческое являет нам неземную красоту.
ИЛЛАРИЯ. Но я же земная…
ДОБРОРАДОВ. Ты? Нет.
ИЛЛАРИЯ. Не говорите так.
ДОБРОРАДОВ. Да я ведь ничего и не сказал.
ИЛЛАРИЯ. Нет, вы сказали.
ДОБРОРАДОВ. Ну, подумаешь слёзы. Какая цена стариковским слезам?
ИЛЛАРИЯ. Вы другое сказали.
ДОБРОРАДОВ. Не знаю. Не помню. Да не путай же ты меня, несносная девчонка! Давай-ка лучше пить кофе – расстанься ж наконец со своей дурацкой тряпкой!
ИЛЛАРИЯ. Какую сами дали…
ДОБРОРАДОВ. Садись сюда (помогает ей усесться в кресло-качалку). Сейчас я кофе принесу и плюшки – и будем коротать вечерок, если у тебя нет на него других планов.
ИЛЛАРИЯ. Не было, но теперь есть.
ДОБРОРАДОВ. И нельзя отменить?
ИЛЛАРИЯ. Нельзя и не хочется.
ДОБРОРАДОВ. Ну что ж… Если так, покоримся судьбе. (Решительно) Иду варить кофе!
Он уходит, а Иллария начинает мечтательно качаться в качалке, и та, задевая спинкой торшер, опять делает свет в комнате зыбким.
Картина 2-я.
Та же комната в квартире Доброрадова. Теперь в качалке он сам, и уже он создаёт своим покачиванием зыбкое освещение.
В кресле – Алёна.
АЛЁНА. А нельзя перестать трясти торшер – свет из-за этого словно колет во все места?
ДОБРОРАДОВ. Прости. (Перестаёт качаться) Я машинально.
АЛЁНА. Нервничаешь?
ДОБРОРАДОВ. Я-то нет. А вот ты что такая колючая?
АЛЁНА. А я нервничаю немного.
ДОБРОРАДОВ. Что-то случилось?
АЛЁНА. Да Ларька наша пропала… Конечно, ушилась куда-то со своим непутёвым Матвеем, но могла бы и позвонить – какие теперь с этим проблемы, когда в каждом кармане мобильники, разве не так?
Доброрадов молчит.
АЛЁНА. Соседки её по комнате тоже не в курсе. Говорят, как к тебе нанялась, так они её и не видят почти. Ты что, девочку так нагружаешь? Или платишь безумные деньги, и она вместо учёбы хороводится по ночным клубам? Миллионер чёртов!
Доброрадов молчит.
АЛЁНА. Ладно, отыщется – не дитя малое. И с царём в голове. Я-то не больно волнуюсь, я в ней уверена. А вот родители периодически мечут икру.
Доброрадов молчит.
АЛЁНА. У тебя-то что нового?
ДОБРОРАДОВ. У меня всё новое.
АЛЁНА. До какой степени – «всё»?
ДОБРОРАДОВ. До последней.
АЛЁНА. Звучит как-то фатально…
ДОБРОРАДОВ. Оно так и есть.
Он обводит взглядом весь объём комнаты.
АЛЁНА. Да я же не про квартиру!
ДОБРОРАДОВ. Я тоже не про неё.
АЛЁНА. Слушай, друг ситный, что-то ты странный какой-то… Ты нашу Илларию давно видел?
ДОБРОРАДОВ. Сегодня.
АЛЁНА. Сегодня?! И где же ты с ней пересёкся? Значит, она никуда не уезжала?
ДОБРОРАДОВ. Да вот в этой комнате – она, как всегда, прибирала. Она у вас помешенная на чистоте! Я говорю ей: Ларя, без фанатизма, кому она нужна, твоя стерильность. Так вообще без иммунитета останемся. А она намеренно педалирует!
АЛЁНА. Но в целом ты ею доволен?
ДОБРОРАДОВ. В целом да. Как, впрочем, и в частности.
АЛЁНА. Ну ладно, хорошо, что она хотя бы тут, у тебя появляется. Но могла бы и домой заглянуть. Ты ей при случае попеняй.
Доброрадов молчит.
Распахивается дверь, влетает разгорячённая и оживлённая Иллария. Она не замечает бабушку.
ИЛЛАРИЯ. Любимый, я отправила обе бандероли, как ты и просил. Представляешь, они даже не знали, что существует такое издательство…
Тут она наконец видит Алёну.
ИЛЛАРИЯ. Бабушка…
АЛЁНА. Как видишь. Но я что-то в твоём щебете не всё поняла. Там слова какие-то, вроде знакомые, но неуместные.
ИЛЛАРИЯ. Бабушка…
АЛЁНА. Скажи, это то, что я думаю?
ИЛЛАРИЯ. Это то…
В комнате повисает долгая увесистая тишина. Все, замерев, стараются не смотреть друг другу в глаза.
Наконец Доброрадов первым «оживает», качалка приходит в движение, и по комнате снова мечется зыбкий свет.
ДОБРОРАДОВ (глухо). Ларушка, детка, окажи божескую милость, подай кочергу. Она там, в прихожей, на стойке для зонтов.
Теперь «оживает» и Алёна.
АЛЁНА. Зачем тебе кочерга, если нет даже камина?
ДОБРОРАДОВ. На случай подобного житейского обстоятельства.
«Оживает» и Иллария. Она молча приносит кочергу и подаёт Доброрадову. Но тот не берёт, а глазами показывает на Алёну: дескать, ей отнеси.
Иллария подаёт кочергу Алёне.
АЛЁНА (отстраняется). Да не суй ты мне в руки эту железяку! Я же знаю, он хочет, чтобы я его замочила, и он поехал на кладбище бедненькой жертвой жестокосердного общества с затычкой в дырке на башке. Так вот не будет этого! Вы сей же час сядете в такси – ничего, вам это по карману, не то что нам, нищим пенсионерам – и оправитесь к её родителям объясняться. А уж кто из вас и в каком состоянии тела и духа выйдет из этой передряги, один бог знает – я делать прогнозов не берусь.
ДОБРОРАДОВ. А нельзя ль всё же выбрать кочергу?..
АЛЁНА. Вообще-то можно. Но у тебя самого ничего получится, а я мараться не собираюсь. Да и в места не столь отдалённые мне отправляться как-то уже не по возрасту.
ДОБРОРАДОВ. Да, пожалуй… Хотя там нашего брата навалом: тут была амнистия к празднику, так многих пожилых душегубов повыпускали. Причём даже и убийц.
АЛЁНА. До следующего большого праздника я не доживу – они бывают не так часто, как ты думаешь.
ДОБРОРАДОВ. Да? Хм… Тогда неразрешимое противоречие.
АЛЁНА. Как это неразрешимое?! Да и вовсе не противоречие. Как прежде писали в газетах об организации работы городского транспорта на Первое мая и Седьмое ноября, «легковые таксомоторы работают круглосуточно». Ларенька, деточка, выйди, пожалуйста – старому селадону необходимо переодеться. Хотя, как я понимаю, вы это делаете теперь совместно…
ИЛЛАРИЯ. Бабушка!
АЛЁНА. Что – бабушка?! Ну, что – бабушка? Как это тебя угораздило – такую, мне казалось, благоразумную, натворить этаких несуразных глупостей?
ИЛЛАРИЯ. Может это и глупости – но уж никакие не несуразные!
АЛЁНА. (Доброрадову через плечо). Сидор, ты уже одеваешься? (Илларии) То есть, ты хочешь сказать, что твои глупости – благоразумные? Напомни, сколько тебе лет?
ДОБРОРАДОВ. У меня одежда в спальне.
ИЛЛАРИЯ. Ты же прекрасно знаешь – двадцать.
АЛЁНА (Доброрадову). Ну, так и ступай в спальню. Чего рассиживать тут? Соскочить думаешь?
ДОБРОРАДОВ. Думаю.
АЛЁНА (Илларии). Вот видишь, двадцать. А этому старому селадону (Доброрадову через плечо), который наивно рассчитывает соскочить, – под семьдесят. Полвека! Ты отдаёшь себе отчёт, что между вами – пол-ве-ка?
ИЛЛАРИЯ. Да ничего не полвека. Мы рядом, вот смотри.
ДОБРОРАДОВ. И я отнюдь не старый селадон – не надо гипертрофировать!
АЛЁНА (Доброрадову). Ты шёл в спальню? Там есть большое зеркало – мы с тобой вместе его в прошлом месяце покупали, так вот, как дойдёшь, встань перед ним и убедись.
ДОБРОРАДОВ. В чём? Я и так знаю, что мне под семьдесят. Для этого надо не в зеркало, а в паспорт посмотреть.
АЛЁНА. В душу себе надо посмотреть! И не сейчас, а прежде чем совращать двадцатилетнюю девушку.
ИЛЛАРИЯ. Сидор меня не совращал.
АЛЁНА (ухмыляясь). Ну, тогда методом исключения остаётся определить, что это ты его совратила.
ИЛЛАРИЯ. Именно!
АЛЁНА. Скажите, пожалуйста! (Доброрадову). И ты ей это позволил?
ДОБРОРАДОВ (морщится). Ты выбираешь не те выражения.
АЛЁНА. А ты ещё тут?! Ты же шёл переодеваться, а за одно и посмотреть на себя в зеркало.
ДОБРОРАДОВ. «Совратил», «совратила»… Никто никого не совращал.
ИЛЛАРИЯ (недоумённо смотрит на Доброрадова). Так мне это что, приснилось?
АЛЁНА (навострив уши). Что именно, деточка?
ИЛЛАРИЯ (смущённо). Ну…
АЛЁНА. Ну, говори, говори! Тут все свои.
ДОБРОРАДОВ (Илларии через голову Алёны). Тебе ничего не приснилось. Я правда люблю тебя.
ИЛЛАРИЯ (бросается к нему и прижимается всем телом, глядя на Алёну). Но первая тебе это сказала я.
ДОБРОРАДОВ. Да…
АЛЁНА (привстаёт с кресла и тут же падает обратно). Да?!
Доброрадов с Илларией в его объятьях дружно кивают.
АЛЁНА. Вы мне зубы не заговаривайте! Это дело молодое, когда сегодня Матвей, а завтра – Андрей. (Она поднимает назидательно палец) Но не Сидор Доброрадов, которого уже на кладбище с фонарями ищут.
ИЛЛАРИЯ. Бабушка! Да он всех Матвеев и Андреев переживёт!
АЛЁНА (подавленно). Чувствую, что и меня тоже… Вот уж чего не ожидала увидеть на старости лет, так это то, как моя внучка губит свою жизнь.
ИЛЛАРИЯ. Я вовсе не гублю! Разве любовь может погубить жизнь?
АЛЁНА. Да какая же это любовь… Ты бы тоже, Сидор, подумал сперва, в какой омут толкаешь мою внучку.
ДОБРОРАДОВ. Она свободна. Это выбор её. А я лишь не нашёл в себе сил ему противиться.
ИЛЛАРИЯ. Любимый, что ты говоришь!
ДОБРОРАДОВ. Горькую правду…
ИЛЛАРИЯ. Выходит, ты мне просто подыгрывал?
ДОБРОРАДОВ. Да бог с тобой! Я всегда был с тобой искренен. Но бабушка-то ведь права: полвека – есть полвека.
ИЛЛАРИЯ (горячится). И мы будем играть в числа? Если ровесники – это любовь. Если разница в возрасте небольшая – ладно, и это любовь. А если почти полвека, то, значит, что-то грязное и пошлое?
ДОБРОРАДОВ. Ларенька, боже избави!
ИЛЛАРИЯ. Тогда в чём же дело? Ах в том, «а что же скажет Марья Алексевна»? Ну да, мы же не о счастье должны думать, а об общественном мнении! Чтобы ему, а не нам было счастье. (Алёне) Бабушка, но зачем?
Алёна удручённо молчит.
ИЛЛАРИЯ. Почему удовлетворённость общественного мнения должна быть нам всем дороже нашего собственного счастья? Я этого не понимаю и никогда не пойму.
ДОБРОРАДОВ (осторожно). Я, честно говоря, тоже…
АЛЁНА (жёстко обрезает его). Да ты-то старый дурак, а туда же – понимать!..
Доброрадов выходит.
Иллария подсаживается к Алёне на палас у её кресла.
ИЛЛАРИЯ (просительно). Поговори сама с родителями.
АЛЁНА. Ишь какая! Нашкодила – а бабушка выручай?
ИЛЛАРИЯ. Ничего я не шкодила. Я счастье нашла. Ну да, не в тренде – но счастье само управляет нами. Мы можем только впустить его в себя или оттолкнуть. Я не стала отталкивать.
АЛЁНА. Сидор – замечательный человек. (Оглядывается, не слышит ли Доброрадов, и не находит его в комнате) Но ведь у вас же нет будущего. Сколько он ещё проживёт?
ИЛЛАРИЯ. Он говорит, не меньше тридцати.
АЛЁНА. Какой самонадеянный! Он, конечно, человек здоровый…
ИЛЛАРИЯ (оживлённо). Прикинь, у него даже медкарточки в поликлинике нет и страхового полиса – они ему не нужны. А тут я ещё рядом – какой омолаживающий эффект!
АЛЁНА. Ты заблуждаешься, девочка. Молодой женщине нужен молодой мужчина. Девушка старика не омолодит – это он её состарит. Так уж физиология наша работает.
ИЛЛАРИЯ. Мне всё равно.
АЛЁНА. Это сейчас. Сейчас у тебя, это видно же, эйфория, когда море по колено. А пройдёт время, и весь негатив вашего мезальянса скажется во всей его неприглядности.
ИЛЛАРИЯ. Не каркай, бабушка!
АЛЁНА. Да тут хоть каркай, хоть выпью реви или филином ухай… (Она долго молчит) Ты одурманена счастьем, и потому не стану тебя переубеждать. Верно говорит Сидор, каждый должен прожить жизнь по своему собственному плану или по собственной дурости – иначе в старости проклянёт тех, кто ему этого не давал. Что ж, живи, как считаешь правильным – и бог тебе судья. Я не хочу, чтобы ты меня проклинала.
ИЛЛАРИЯ (порывисто обнимает и целует Алёну). Бабуля! А родителей убедишь? Меня они, я боюсь, не послушают.
АЛЁНА. Постараюсь. Во всяком случае, попробую. Они же тебе тоже не враги. Но пока лучше им на глаза не показывайтесь. Пусть уляжется гроза.
ИЛЛАРИЯ. Гроза? Какая гроза?
АЛЁНА. А ты думаешь, она дома не грянет?
Тут появляется Доброрадов. Он в изящном костюме и стильных рубашке с галстуком.
ДОБРОРАДОВ. Ну что же, я готов!
ИЛЛАРИЯ. А мы уже к родителям не едем.
ДОБРОРАДОВ. А я к ним и не собирался. (Мимически передразнивает Алёну, выражающую недоумение). Мы едем в ресторан! Мне только что позвонили из «Эксмо» – мою книгу запускают в производство наконец и в России. Это надо отметить, и я приглашаю вас, мои милые дамы.
ИЛЛАРИЯ (взвизгивает от радости и бросается на шею Доброрадову). Мне нужно всего минут двадцать переодеться.
Она убегает.
АЛЁНА. А мне не во что… Может, вы поедете без меня?
ДОБРОРАДОВ. Старуха, ты по миру ходи, а хреновину-то не городи! Ты прекрасно одета, вон и колье какое изящное на тебе опять нынче. Ты ко мне ещё ни разу ненарядной не приходила.
Алёна удовлетворённо хмыкает – мол, а то. Поднимается с кресла и подходит к нему вплотную. Он нежно гладит её по волосам, и лицо его отражает приятные воспоминания.
АЛЁНА (неожиданно смахнув с лица блаженную улыбку). Отравлю.
ДОБРОРАДОВ (отдёргивает руку). Что? Прости, я не понял – что?
АЛЁНА. Говорю, отравлю, если обидишь мою девочку хоть разочек. Знай, что только от неё теперь зависит, сколько ты ещё проживёшь.
Она выразительно показывает ему свой крохотный кулачок.
ДОБРОРАДОВ. Условие принимается. Пойдём-ка на воздух, пока Ларенька собирается: что-то здесь слишком душно.
Они уходят.
Картина 3-я.
Комната в общежитии, где жила Иллария. На своей несвежей постели, укрытой замызганным покрывалом, валяется в затрапезном халате Ирина. В ушах у неё наушники. Она раскачивается и жестикулирует в такт музыке.
Входит Инга.
ИНГА. Ирка, слыхала новость?
Ирина, поглощённая музыкой, не слышит её. Инга решительно подходит к ней и рывком выдёргивает из её ушей наушники. Ирина вскакивает с возмущением.
ИРИНА. С дуба рухнула, мать?! Или ПМС прижал?
ИНГА. Сейчас сама рухнешь! Говорю, слыхала новость?
ИРИНА (без интереса, пытаясь водворить наушники на место). Какую ещё?
ИНГА. Ларька никуда не пропадала. Она просто того старика захомутала.
ИРИНА (уже сама порывисто сдергивает с себя почти вставленные наушники). Да ладно!
ИНГА. Инфа точная.
ИРИНА. От кого?
ИНГА. Да бабку её встретила. Нашлась, спрашиваю, ваша Ларька. Нашлась, говорит. Ну, и рассказала мне, как лихо Иллария наша дедульку Сидора обработала.
ИРИНА. И как же она его обработала?
ИНГА. Как именно, бабка не сказала, но догадаться нетрудно.
ИРИНА. Да… Вот сучка!
ИНГА. Чего это ты? А по мне так молодец Ларька, не растерялась. Я бы на её месте точно так же поступила – один в один. А ты разве нет?
ИРИНА. Это я должна была быть на её месте.
ИНГА. С чего это вдруг?
ИРИНА. По-справедливости.
ИНГА. А в чём она, справедливость?
ИРИНА. Да я красивей её в тысячу раз!
ИНГА. Ну… На любителя. Если честно сказать.
ИРИНА. Это ты от зависти – что сама одни кожа да кости.
ИНГА. Злая ты, Ирка…
ИРИНА. Ничего я не злая. Говорю, как есть.
ИНГА. Как есть и говорят со зла. Добрые щадят самолюбие других.
ИРИНА. А мне так наплевать на ваше самолюбие!
ИНГА. Вот бог за это тебя и наказал – он выбрал Ларьку в счастливчики.
ИРИНА. Большое счастье – спать со стариком!
ИНГА. Тогда чего ж ты так рвалась?
ИРИНА. Я спать, что ли, рвалась с ним? Ну да, разок-другой пришлось бы, чтоб только забеременеть и к себе привязать – чтобы его хоромы и всё прочее нам с ребёнком досталось, когда он загнётся. А загнётся он скоро – видела же его.
ИНГА. Видала: ещё какой живенький! Такой сто лет протянет. Или ты надеялась ему в этом помешать?
ИРИНА. Дура, что ли?! Я что, на убийцу похожа?
ИНГА. Да нет… Но может такую мысль вынашивала, кто тебя знает… А так-то Сидор Изотович крепкий вполне. И походка, и голос у него молодые. Чего б ему раньше времени загибаться?
Слышится стук в дверь.
ИНГА. Вэлкам!
В приоткрытую дверь просовывается голова Матвея.
МАТВЕЙ. Можно?
ИРИНА. Если осторожно.
МАТВЕЙ. Девчонки, Ларя так и не нашлась? Может слышали что? Я весь город обшарил.
ИРИНА. Да уж слышали…
МАТВЕЙ (врывается, широко распахнув дверь). Ну? И где она?
ИНГА. Где-где… На работе!
МАТВЕЙ. На какой ещё работе?
ИНГА. На которую устроилась.
МАТВЕЙ. Это домработницей к тому старикану?
ИНГА. Ну да.
МАТВЕЙ. Так там час-другой всего в неделю работа, как вы говорили.
ИРИНА (ехидно). А её перевели на круглосуточный график.
МАТВЕЙ. Как это?
ИРИНА. А вот так.
МАТВЕЙ. Ничего не понимаю!
ИРИНА. Час в неделю она убирается, а в остальное время дедульку ублажает.
МАТВЕЙ. Что-о-о?!
ИРИНА. Да не ори ты так – всё общежитие сбежится.
МАТВЕЙ (понизив голос до громкого шёпота). Она что, с ним живёт?
ИНГА. Именно. А ты думал она будет вечно из-за тебя слёзы лить? Проплакала тогда всю ночь, когда ты ей гадостей наговорил, да ещё и убежал по-скотски, а утром пошла и отдалась с горя божьему одуванчику. И правильно сделала! От тебя толку нет – даже комнату для спокойного секса снять не в состоянии, а там простор. Да и перспектива.
МАТВЕЙ. Какая ещё перспектива?
ИРИНА. Совсем дурак? В загс старикана сводит, а потом и дитёнка с ним сделает – и вот вам полноценная наследница писателя земли русской. Его, кстати, кто-нибудь читал?
Инга отрицательно качает головой. А Матвей этого даже не слышит: у него свои мысли.
МАТВЕЙ. Да он же вряд ли способен.
ИРИНА. Ты о чём?
МАТВЕЙ. Ну, ребёнка заделать – сама же сказала.
ИРИНА (криво усмехаясь). Посмотрим. Время – лучший телевизор: оно точно всё покажет, без пропусков и цензуры.
Матвей, совсем убитый, садится на кровать Илларии, обхватив голову.
МАТВЕЙ. Надо что-то делать!
ИНГА. Так делай. Тебе и карты в руки.
МАТВЕЙ. Я с ним поговорю.
ИРИНА. Что, мол, так, дедушка, нельзя – Ларьку комкать и брюхатить, я сам её, дескать, люблю и обожаю, и всё такое?
МАТВЕЙ. Да, именно. Я же правда её люблю.
ИНГА (с выражением). А она теперь любит пенсика.
МАТВЕЙ. Почему ты решила?
ИНГА. Не шалава же она какая-нибудь, чтобы просто так с одуваном жить – за бабло, например.
ИРИНА. А ты что, всерьёз веришь, что не просто так?
ИНГА (пожимает плечами). Думаю, что всё же не просто. Ларька не такая. Что мы её, не знаем?
ИРИНА. А ты считаешь, знаем? Ну, правильная на вид вся из себя, принципы свои всюду показушно выпячивала. Так может она делала это, лишь дожидаясь подходящего случая. А дождалась – и побоку все её принципы. А что, такое разве не бывает?
ИНГА (уныло). Да нет, что ты, бывает. И очень даже часто.
ИРИНА. И вот наша праведница наткнулась на золотую жилу – и поступила, как многие, а именно все. Меня это почему-то не удивляет.
МАТВЕЙ. А меня удивляет. Не мог я так в ней ошибиться!
ИРИНА (насмешливо). Ты женщин, Матюха, не знаешь – телёнок ещё. Думаешь, первый и последний раз они с тобой так обошлись? Да всю жизнь так и будет. Ты ей доверие – она тебе рога. Кто больше предложит, на того тебя и поменяет.
МАТВЕЙ. По себе-то не суди!
ИРИНА. А я тебе рога, мой дорогой, не наставляла. Так что отвянь, будь любезен, на фиг.
Картина 4-я.
Комната в квартире Доброрадова. Посередине – стол с грязной посудой, остатками закусок, салатов, вокруг которого теснятся, едва не налезая друг на друга, разномастные стулья, табуреты, скамейки.
Входит Иллария в чёрном платье и чёрном гипюровом платке. Начинает снимать с двух картин на стенах, забранных под стекло, куски тёмной ткани, которой они занавешены.
Из-за стены слышится пронзительно-скандальный женский возглас: «Как только вымоешь всё, чтобы духу твоего тут не было больше! Ключ оставишь консьержке!» Затем громко хлопает входная дверь.
Входят Инга с Ириной. Следом за ними – Алёна.
АЛЁНА (Илларии). Погоди, Ларенька, не снимай! Ещё же трёх дней не прошло, как…
ИРИНА (недоумённо, наблюдая за тем, что делает Иллария). А зачем их было вообще занавешивать, если деда даже в дом не привозили – сразу на кладбище?
ИЛЛАРИЯ. Сказали, что так полагается. Будто душа три дня находится в доме, где жил умерший, а для неё же, мне бабушка говорила, нет преград.