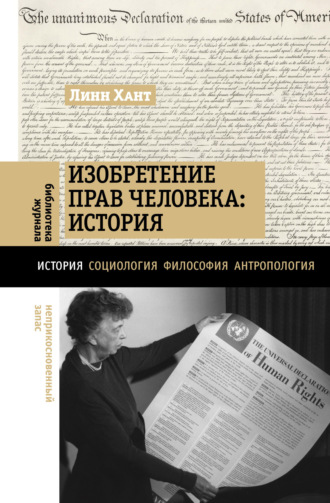
Полная версия
Изобретение прав человека: история
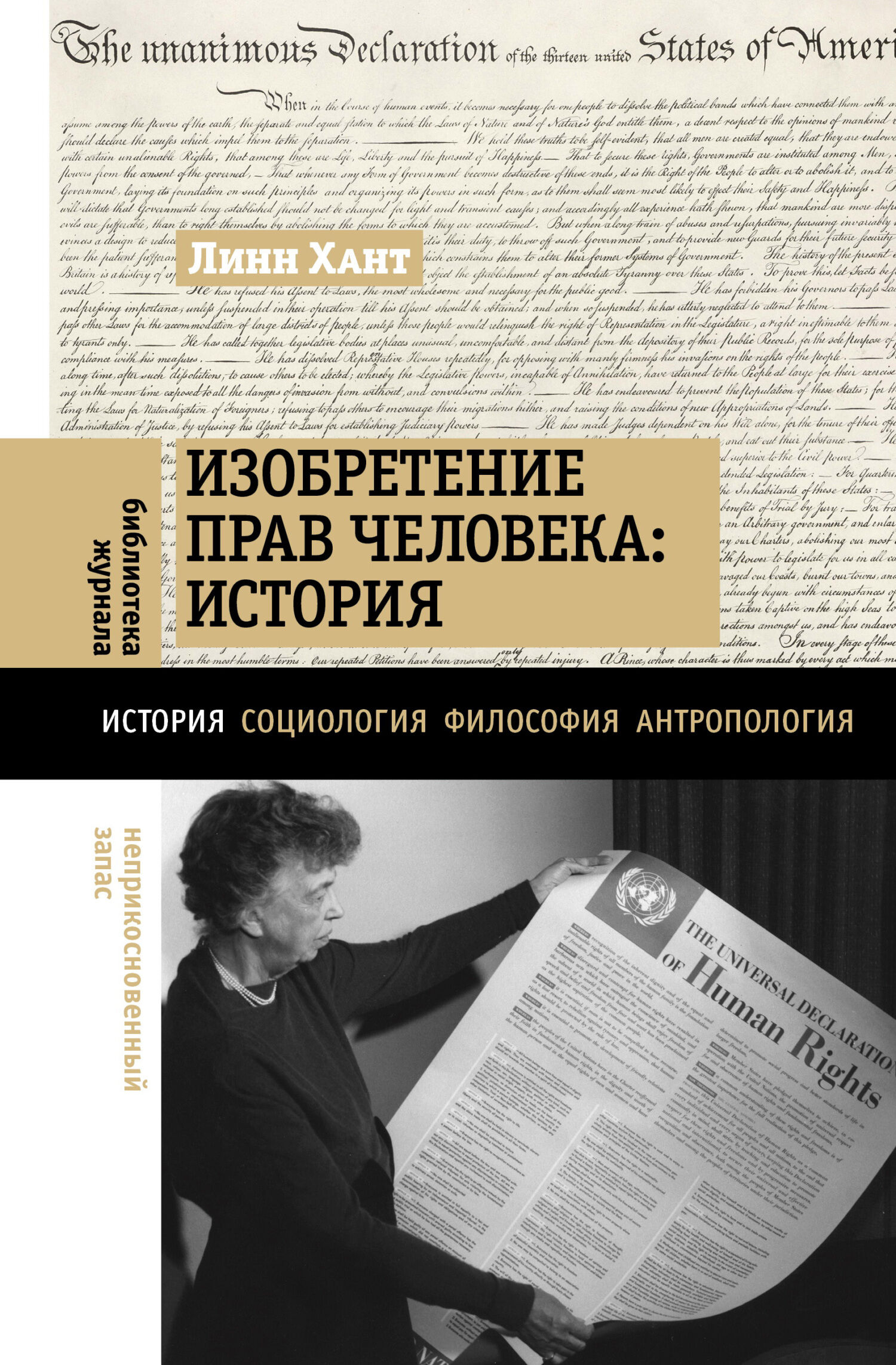
Линн Хант
Изобретение прав человека: история
Lynn Hunt
Inventing Human Rights: A History
© 2007 by Linn Hunt. All rights reserved. First published as a Norton paperback 2008
© Н. Алёшина, перевод с английского, 2023
© И. Дик, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
* * *Посвящается Ли и Джейн, сестрам, подругам, вдохновительницам
Благодарности
В работе над этой книгой мне очень пригодились многочисленные советы друзей, коллег и участников разных семинаров и лекций. Мне никогда не хватит слов благодарности, чтобы выразить признательность всем тем, перед кем мне посчастливилось оказаться в неоплатном долгу, и остается лишь уповать на то, что они узнают свои идеи в отдельных фрагментах и сносках. Лекции имени Паттена в Университете Индианы, лекции имени Мерла Курти в Висконсинском университете в Мэдисоне и лекции имени Джеймса У. Ричарда в Университете Вирджинии дали мне неоценимую возможность проверить на публике первоначальный замысел этой книги. Кроме того, отличными наблюдениями поделились со мной слушатели в Камино-колледже, Карлтонском колледже, Центре экономических исследований и образования в Мехико, в Фордемском университете, Институте исторических исследований Лондонского университета, колледже Льюиса и Кларка, Помона-колледже, Стэнфордском университете, Техасском сельскохозяйственном и инженерном университете, Парижском университете, Ольстерском университете в Колрейне, Вашингтонском университете в Сиэтле и, конечно, в моем родном Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Финансированием большей части исследования я обязана именной профессуре Юджина Вебера по европейской истории Нового времени в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе; серьезным подспорьем стала и поистине уникальная, богатая библиотека нашего университета.
Многие полагают, что в списке приоритетов университетского профессора исследовательская работа опережает преподавание. Однако замысел этой книги родился благодаря сборнику документов, который я редактировала и переводила для студентов бакалавриата: «Французская революция и права человека: краткая документальная история» (The French Revolution and Human Rights: A Brief Documentary History. Boston; New York: Bedford/St. Martin’s Press, 1996). Стипендия Национального гуманитарного фонда (National Endowment for the Humanities) помогла мне завершить тот проект. Прежде чем приступить к этой книге, я опубликовала короткий очерк «Парадоксальные истоки прав человека» (The Paradoxical Origins of Human Rights // Wasserstrom J. N., Hunt L., Young M. B. (Eds) Human Rights and Revolutions. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000. P. 3–17). Некоторые аргументы из главы 2 я изначально приводила в статье «Тела в XVIII веке: истоки прав человека» (Le Corps au XVIIIe siècle: les origines des droits de l’homme // Diogène. 2003. № 203 (July – September). P. 49–67), хотя и в несколько ином ключе.
Путь от замысла к окончательному воплощению, по крайней мере в моем случае, долог и труден, но я смогла его осилить с помощью близких и любимых людей. Джойс Аппелби и Сюзанн Десан читали черновые наброски первых трех глав и дали прекрасные советы по их улучшению. Мой редактор в «У. У. Нортон» Эми Черри отнеслась к тексту и моим аргументам с таким вниманием, о котором многие авторы могут только мечтать. Я бы не написала эту книгу без Маргарет Джейкоб. Ее энтузиазм по поводу собственных исследований и текстов, смелость, с которой она бралась за новые, спорные темы, и не в последнюю очередь способность отложить все это в сторону ради приготовления отменного ужина давали мне стимул продолжать работу. Она знает, сколь многим я ей обязана. Пока я писала эту книгу, скончался мой отец, но я по-прежнему вспоминаю, как он подбадривал и поддерживал меня. Я посвящаю эту книгу моим сестрам Ли и Джейн в знак признательности, хотя и не соразмерной, за все то, что мы пережили вместе за долгие годы. Они преподали мне первые уроки о правах, разрешении конфликтов и любви.
Введение. «Мы исходим из самоочевидной истины»
Иногда поспешное переписывание приводит к появлению великих вещей. В первом варианте Декларации независимости, подготовленном в середине 1776 года, Томас Джефферсон писал: «Мы исходим из священной и неопровержимой истины, что все люди созданы равными и независимыми [sic] и что из равенства вытекают неотъемлемые и неотчуждаемые права, среди которых сохранение жизни и свободы и стремление к счастью». Во многом в результате собственных правок Джефферсона предложение вскоре избавилось от длиннот и лишних слов и приобрело ясный и стройный вид: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». С помощью одного этого предложения Джефферсон превратил типичный документ XVIII века о политических злоупотреблениях короны в неустаревающий манифест прав человека[1].
Джефферсон был в Париже тринадцать лет спустя, когда французы начали задумываться о том, чтобы заявить о своих правах. В январе 1789 года – за несколько месяцев до падения Бастилии – друг Джефферсона маркиз де Лафайет, ветеран войны за американскую независимость, подготовил проект французской декларации, скорее всего с помощью Джефферсона. Когда 14 июля Бастилия пала, ознаменовав начало Французской революции, необходимость в официальной декларации выросла как никогда. Несмотря на все старания Лафайета, никто не мог придать документу окончательный вид, как это сделал Джефферсон для американского Конгресса. 20 августа новое Национальное собрание начало обсуждение двадцати четырех статей, подготовленных огромным комитетом из сорока депутатов. Через шесть дней бурных дебатов и бесконечных поправок французские депутаты одобрили только семнадцать статей. Непрерывные разногласия порядком измучили депутатов, кроме того, их внимания требовали другие неотложные вопросы, поэтому 27 августа 1789 года члены собрания проголосовали за то, чтобы приостановить прения относительно проекта и временно принять уже одобренные статьи в качестве Декларации прав человека и гражданина.
Подготовленный впопыхах документ поражает своим охватом и простотой. Без единого упоминания короля, знати или церкви в нем провозглашены «естественные, неотчуждаемые и священные права человека» в качестве основы любого правления. Он объявил источником суверенной власти нацию, а не короля, и признал всех равными перед законом, предоставил доступ ко всем постам и должностям сообразно таланту и способностям, неявно исключив все привилегии по рождению. Однако больше, чем любое конкретное обещание, впечатлял универсалистский характер сделанных заявлений. Отсылки к «людям», «человеку», «каждому», «всем», «всем гражданам», «каждому гражданину», «обществу» и «каждому обществу» затмили единственное упоминание французского народа.
В результате публикация декларации немедленно вызвала во всем мире широкий отклик как за, так и против. В проповеди, произнесенной в Лондоне 4 ноября 1789 года, Ричард Прайс, друг Бенджамина Франклина и частый критик английского правительства, восторженно высказался о новых правах человека: «Я дожил до тех времен, когда права человека понимают лучше, чем когда-либо, а нации жаждут свободы, о которой, казалось бы, утратили всякое представление». Возмущенный наивным энтузиазмом Прайса по поводу «метафизических абстракций» французов, известный эссеист и член парламента Эдмунд Бёрк быстро написал гневный ответ. Его памфлет «Размышления о революции во Франции» (1790) сразу же получил признание как основополагающий для консерваторов текст. «Мы не адепты Руссо, – метал громы и молнии Бёрк. – Мы знаем, что не совершили открытий, и полагаем, что вообще невозможно совершить открытий в области нравственности… Нас не поймали в силки, чтобы потом набить, как музейное чучело, которое набивают соломой, тряпьем и прочим хламом наподобие бумажонок о правах человека». У Прайса и Бёрка не было разногласий относительно американской революции – они оба ее поддерживали. Но Французская революция сильно подняла ставки, и вскоре оформилась линия фронта: было ли это рассветом новой эры свободы, основанной на разуме, или началом неумолимого сползания к анархии и насилию?[2]
На протяжении почти двух столетий, несмотря на споры, вызванные Французской революцией, Декларация прав человека и гражданина воплощала собой обещание универсальных прав. В 1948 году Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Статья 1 гласила: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Уже в 1789 году статья 1 Декларации прав человека и гражданина провозглашала: «Все люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Языковые изменения были, безусловно, значимы, тем не менее нельзя не заметить очевидную перекличку между двумя документами.
Происхождение документов не обязательно говорит нам что-то существенное о том, к каким последствиям они приводят. Имеет ли значение то, что черновой вариант Джефферсона претерпел восемьдесят шесть правок, внесенных им самим, Комитетом пяти и Конгрессом? Джефферсон и Адамс явно так и думали, иначе они бы не спорили в 1820-е годы – в последнее десятилетие их долгой и насыщенной событиями жизни – о том, кто и что внес в этот документ. Однако Декларация независимости не имела конституционного статуса. Она просто провозглашала намерения, и прошло пятнадцать лет, прежде чем в 1791 году штаты наконец ратифицировали уже совсем другой Билль о правах. Французская декларация прав человека и гражданина защищала индивидуальные свободы, однако она не предотвратила появление французского правительства, ущемлявшего права (в период Террора), и создание конституций, – а их было немало, – которые формулировали новые декларации или вообще обходились без таковых.
Еще больше удручает тот факт, что те, кто в конце XVIII века так уверенно провозглашал универсальные права, как выяснилось, имели в виду нечто гораздо менее всеобъемлющее. Нас не удивляет, что они считали детей, сумасшедших, заключенных или иностранных граждан неспособными или недостойными полноценного участия в политическом процессе, поскольку мы сейчас придерживаемся того же мнения. Но они также исключали из правового поля неимущих, рабов, свободных чернокожих, религиозные меньшинства в некоторых случаях, а также всегда и везде женщин. В последние годы эти ограничения, касающиеся «всех людей», вызвали много комментариев, и некоторые исследователи даже сомневаются, повлияли ли в какой-то степени все эти декларации на освобождение. Основателей, создателей и деклараторов обвиняют в элитизме, расизме и женоненавистничестве за их неспособность признать равные права всех людей.
Конечно, не стоит забывать о том, насколько ограниченно понимались права в XVIII веке. Однако зацикливаться на этом и гордиться нашей относительной «продвинутостью» значит упускать самое главное. Каким образом люди, живущие в обществах, основанных на рабстве, подчинении и естественной, как тогда казалось, сервильности, смогли вообще представить себе совершенно не похожих на них мужчин, а в некоторых случаях и женщин, как равных? Как равноправие в подобных условиях стало «самоочевидной» истиной? Поразительно, что такие люди, как рабовладелец Джефферсон и аристократ Лафайет, вообще могли говорить о самоочевидных и неотъемлемых правах всех людей. Если бы мы поняли, как это произошло, мы лучше понимали бы, что права человека означают для нас сегодня.
Парадокс самоочевидности
Несмотря на различия в формулировках, обе декларации XVIII века основывались на заявлении о самоочевидности. Джефферсон ясно дал это понять, написав: «Мы считаем самоочевидными истины». Французская декларация категорически заявляет, что «невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств». В 1948 году в этом отношении мало что изменилось. Разве что декларация Организации Объединенных Наций берет более легалистский тон: «Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира». Тем не менее и здесь речь идет о самоочевидности, поскольку «принимая во внимание» буквально означает «[является фактом, что]». Другими словами, «принимая во внимание» – это просто легалистский способ утверждения о чем-то данном, о чем-то самоочевидном.
Такое заявление о самоочевидности даже сейчас имеет решающее значение для прав человека и приводит к парадоксальной ситуации: если равенство прав настолько самоочевидно, то почему о нем вообще нужно заявлять и почему заявлено о нем было только в определенное время и в определенных местах? Как права человека могут быть универсальными, если они не признаны повсеместно? Должны ли мы довольствоваться объяснением авторов декларации 1948 года, что «мы согласны относительно прав, но при условии, что никто не спросит нас почему»? Могут ли они быть «самоочевидными», если ученые уже более двухсот лет спорят о том, что этой фразой хотел сказать Джефферсон? Дебаты будут продолжаться вечно, поскольку Джефферсон не считал нужным объяснять свои слова. Никто из членов Комитета пяти или Конгресса не стал пересматривать это утверждение, даже несмотря на то что другие разделы его предварительной версии были значительно изменены. Судя по всему, они с ним согласились. Более того, если бы Джефферсон объяснился, самоочевидность заявления тут же улетучилась бы. Утверждение, требующее аргументов, не является самоочевидным[3].
Я считаю, что утверждение о самоочевидности имеет решающее значение для истории прав человека, а эта книга призвана объяснить, почему в XVIII веке оно стало столь убедительным. К счастью, это утверждение дает нам точку опоры в довольно расплывчатой истории. В настоящее время права человека настолько распространены, что, похоже, требуют столь же обширного исторического исследования. Греческие представления о личности, римские понятия закона и права, христианские учения о душе… риск заключается в том, что история прав человека становится историей западной цивилизации, а иногда даже и историей всего мира. Разве древний Вавилон, индуизм, буддизм и ислам не внесли в нее свой вклад? Иначе как тогда объяснить внезапную кристаллизацию требований прав человека в конце XVIII века?
Права человека требуют трех взаимосвязанных характеристик: они должны быть естественными (присущими человеческим существам), равными (одинаковыми для всех) и универсальными (применимыми повсеместно). Чтобы права были правами человека, все люди в мире должны обладать ими в равной степени, просто потому что они являются человеческими существами. Но как оказалось, легче принять то, что права являются естественными, чем их равенство или универсальность. Во многом мы все еще пытаемся разобраться с последствиями этого требования равенства и универсальности прав. В каком возрасте мы имеем право на полноценное участие в политической жизни? Имеют ли иммигранты – неграждане – общие с нами права и какие?
Однако даже естественности, равенства и универсальности недостаточно. Права человека имеют смысл только тогда, когда получают политическое содержание. Это не права человека в естественном состоянии – это права человека в обществе. И это не просто права человека в противовес божественным правам или правам животным – это права людей по отношению друг к другу. Следовательно, они являются правами, которые гарантированы в светском политическом обществе (даже если их называют при этом «священными») и требуют активного участия тех, кто ими владеет.
Равенство, универсальность и естественность прав впервые нашли прямое политическое выражение в американской Декларации независимости 1776 года и во Французской декларации прав человека и гражданина 1789 года. При этом «древние права и вольности» из Билля о правах 1689 года, установленные английским законодательством и берущие начало в английской истории, не провозглашали равенство, универсальность или естественность прав. Декларация независимости, напротив, настаивала на том, что «все люди созданы равными» и что все они обладают «неотчуждаемыми правами». Точно так же и Декларация прав человека и гражданина провозглашала, что «люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Не французы, не белые, не католики, а «люди» (men), что тогда, как и сейчас, означало не только представителей мужского пола, но и личностей, то есть представителей человеческого рода. Другими словами, где-то между 1689 и 1776 годами права, которые до этого обычно рассматривали как права определенного народа – например, свободнорожденных англичан, – превратились в права человека (human rights), универсальные естественные права, то есть то, что французы называли les droits de l’homme, или «rights of man» («права человека»)[4].
Human rights и «the rights of man»[5]
Краткий экскурс в историю терминов поможет точно определить момент возникновения прав человека. Люди XVIII века не часто использовали выражение «права человека» (human rights), а если и прибегали к нему, то обычно имели в виду нечто иное, чем мы. До 1789 года Джефферсон, например, чаще всего говорил о «естественных правах» (natural rights). Он начал использовать термин «права человека» (rights of man) только после 1789 года. Употребляя словосочетание human rights, он имел в виду нечто более пассивное и менее политическое, чем естественные права или права человека (rights of man). В 1806 году, например, он применил этот термин, описывая зло работорговли:
Я поздравляю вас, сограждане, с приближением периода, когда вы сможете конституционно установить свои полномочия для того, чтобы помешать гражданам Соединенных Штатов в дальнейшем участвовать в тех нарушениях прав человека, которые столь долго продолжаются в отношении невинных жителей Африки и которые мораль, репутация и интересы нашей страны давно стремятся запретить.
Заявляя, что африканцы наделены правами человека, Джефферсон не делал никаких выводов об афроамериканских рабах у себя на родине. Права человека (human rights), по определению Джефферсона, не позволяли африканцам – тем более афроамериканцам – действовать от своего имени[6].
В XVIII веке в английском и французском языках «права человека» (human rights), «права человеческого рода» (rights of mankind) и «права человечества» (rights of humanity) оказались слишком общими для прямых политических целей. Они обозначали то, что отличает людей от божественного, с одной стороны, и от животных, с другой, то есть не на такие политически значимые права, как свобода слова или право участвовать в политике. Возьмем, к примеру, одно из самых первых употреблений (1734) понятия «права человечества» на французском языке: едкий литературный критик и католический священник Николя Ленгле-Дюфренуа высмеивал «тех неподражаемых монахов VI века, которые настолько отреклись от любых „прав человечества“, что паслись подобно животным и бегали совершенно голыми». Подобным же образом в 1756 году Вольтер мог иронично заявлять, что Персия была монархией, в которой больше всего пользовались «правами человечества», поскольку у персов самые разнообразные «средства против скуки». Термин «право человека» (human right) впервые появился во французском языке в 1763 году и мог означать что-то вроде «естественного права». Однако он не получил широкого распространения, несмотря на то что Вольтер использовал его в широко известном «Трактате о терпимости»[7].
На протяжении XVIII века говорящие по-английски продолжали отдавать предпочтение «естественным правам» или просто «правам», французы же в 1760-х годах изобрели новое выражение – «права человека» (droits de l’homme). «Естественное право(а)» или «естественный закон» (во французском языке у понятия droit naturel есть оба эти значения) имеют более длинную историю, насчитывающую сотни лет, в результате чего, вероятно, «естественное право(а)» получило слишком много возможных значений. Иногда это словосочетание употребляли буквально в традиционном значении. Так, например, епископ Босуэ, сторонник абсолютной монархии Людовика XIV, при помощи словосочетания «естественное право» описывал вознесение Иисуса Христа на небо («он взошел на небеса по своему собственному естественному праву»)[8].
«Права человека» (rights of man) получили распространение во французском языке после «Общественного договора» Жан-Жака Руссо в 1762 году, несмотря на то что Руссо не дал этому термину никакого определения и (а возможно, и потому что) использовал его вместе с «правами человечности», «правами гражданина» и «правами короны». Какова бы ни была причина, к июню 1763 года «права человека» стали обычным термином. Вот пример из одной анонимной хроники:
актеры «Комеди Франсез» сегодня впервые сыграли «Манко» [пьесу об инках в Перу], о которой мы говорили ранее. Это одна из самых плохо сочиненных трагедий. В ней есть роль дикаря, которая могла бы быть прекрасной; он декламирует стихи обо всем, что мы когда-то читали о королях, свободе, правах человека в «Рассуждении о происхождении неравенства», «Эмиле» и в «Общественном договоре».
И хотя в пьесе не используется фраза «права человека» (rights of man) дословно, а звучит похожее словосочетание «права нашего бытия», нет сомнений в том, что она вошла в интеллектуальный обиход, и это напрямую связано с произведениями Руссо. Затем, в 1770-х и 1780-х годах, этот термин подхватили и другие писатели эпохи Просвещения, такие как барон Гольбах, Рейналь и Мерсье[9].
До 1789 года словосочетание «права человека» (rights of man) не имело широкого распространения в английском языке. Но Американская революция побудила видного представителя французского Просвещения маркиза де Кондорсе сделать первый шаг к определению «прав человека» (rights of man), которые для него означали неприкосновенность личности и собственности, беспристрастное и справедливое правосудие, а также право участвовать в составлении законов. В своем эссе 1786 года «О влиянии американской революции на Европу» Кондорсе напрямую связал права человека с американской революцией: «Зрелище великого народа, в котором уважают права человека (rights of man), полезно для всех остальных, несмотря на разницу в климате, обычаях и конституции». Декларация независимости Америки, по его словам, была не чем иным, как «простым и возвышенным изложением этих прав, которые одновременно столь священны и столь давно забыты». В январе 1789 года Эммануэль-Жозеф Сийес использовал это выражение в своем провокационном антидворянском памфлете «Что такое третье сословие?». Черновик декларации прав Лафайета, написанный в январе 1789 года, содержал прямое упоминание «прав человека» (rights of man), как и проект самого Кондорсе, подготовленный в начале 1789 года. С весны 1789 года, то есть еще до падения Бастилии 14 июля, разговоры о необходимости провозглашения «прав человека» пронизывали все политические круги Франции[10].
Когда во второй половине XVIII века появился язык прав человека, то поначалу у этих прав было мало четких определений. Руссо, использовав термин «права человека», не дал никаких объяснений. Английский юрист Уильям Блэкстон определил их как «естественную свободу человечества», то есть «абсолютные права человека, рассматриваемого в качестве свободного действующего лица, наделенного способностью отличать добро от зла». Большинство из тех, кто использовал эту фразу в 1770-х и 1780-х годах во Франции, например такие одиозные представители Просвещения, как Гольбах и Мирабо, говорили о правах человека так, как если бы с ними было все понятно и они не нуждались в обосновании или определении. Другими словами, они были самоочевидны. Гольбах, например, утверждал, что, «если бы люди меньше боялись смерти», то «права человека защищались бы более мужественно». Мирабо осуждал своих преследователей, у которых «не было ни характера, ни души, потому что они совершенно не имели представления о правах людей» (rights of men). Но никто не предлагал точного списка этих прав до 1776 года (когда была одобрена созданная Джорджем Мейсоном Декларации прав Вирджинии)[11].
Неопределенность прав человека хорошо уловил французский кальвинистский пастор Жан-Поль Рабо Сент-Этьен, который в 1787 году в письме французскому королю жаловался на ограничения, которые накладывал на протестантов, таких как он сам, будущий эдикт о веротерпимости. Ободренный растущими симпатиями к правам человека, Рабо утверждал, что «сегодня мы знаем, что такое естественные права, и они, безусловно, дают людям гораздо больше, чем в результате эдикта получат протестанты… Настало то время, когда больше не приемлемо, чтобы закон открыто попирал права человечества, очень хорошо известные во всем мире». Возможно, они и правда были «хорошо известны», но сам Рабо при этом признавал, что католический король не может официально предоставить кальвинистам право на публичное богослужение. Короче говоря, все зависело – как и сейчас – от того, как понимать то, что «больше неприемлемо»[12].

