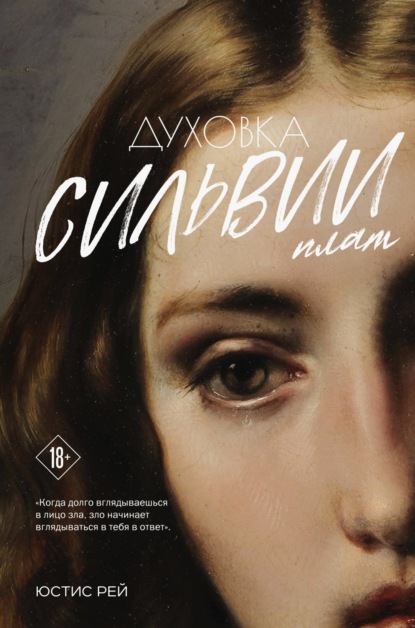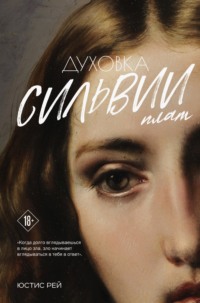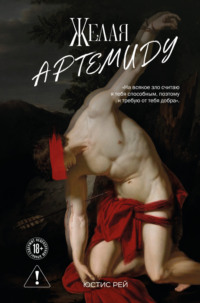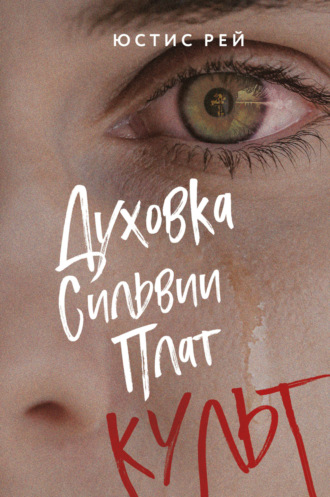
Полная версия
Духовка Сильвии Плат. Культ
– Хорошо, когда в доме есть хозяйка, – говорит он, когда Молли ставит перед ним тарелку, – но еще лучше, когда их две. – Он отламывает хлеб и принимается за кашу.
Мы почти не говорим, я не пытаюсь объяснить ему, зачем приехала. Беседы с ним – игра в одни ворота, словно говоришь с Богом, а мне не нравится тратить силы напрасно. Каждое сказанное ему слово – как корабль, попавший в Бермудский треугольник: пропадает безвозвратно. Предпочитаю убеждать себя, что он болен, как те старики, о которых я когда-то заботилась в доме престарелых.
– Когда ты уезжаешь? – спрашивает Молли. Моя рука повисает над тарелкой.
– Я не намерена уезжать.
Она презрительно хмыкает и скрывает лицо за чашкой.
– Тебе позволили не ходить в женский дом? – интересуется Роберт у Молли.
– Да, какое-то время.
– Я оставил в спальне рубашку. Она разошлась по шву на правом плече.
– Хорошо, я зашью. Можно мне сходить в церковь?
Он сдвигает брови к переносице. Думает о чем-то своем.
– Сегодня хор. Я хочу пойти, – настаивает Молли.
– Иди, но не забудь про рубашку.
– Хор? – встреваю я.
– Отец Кеннел руководит хором. Иногда мы поем во время служб. Ты бы знала это, если бы… – Она резко замолкает, уставившись в тарелку.
– Я могу пойти с тобой?
– Это детский хор.
– Я не говорила, что буду петь.
Она кривится и поджимает губы, а потом выдает:
– Как хочешь. Мне все равно, – она дергает плечиком, но на долю секунды уголки губ приподнимаются, отчего внутри разливается тепло, – она там. Моя Молли все еще там, мне только нужно откопать ее, очистить от песка и пыли, от всего, что Доктор скормил ей в мое отсутствие.
Когда отец выходит из дома, Молли выбегает за ним, чтобы отдать шляпу, – он сам не свой, машина, заправленная топливом. Я убираю со стола – хоть в чем-то могу быть полезной, а Молли принимается за порванную рубашку отца. Я мельком наблюдаю за ней. Мне никогда не удается попасть в ушко иголки с первого раза, ее же движения умелые и спорые, как у заправской швеи.
– У тебя так здорово выходит.
– В Корке все это умеют. Хелен нас учит.
– Научишь меня?
Она поднимает глаза.
– У тебя не получится.
За шесть лет она выросла словно на четверть века, пропасть из обид, боли, страха, отчаяния и разочарования стала такой огромной, что нам уже не докричаться друг до друга, но я пытаюсь. И буду пытаться, пока жива.
– Если не соберешься за двадцать минут, я пойду в церковь без тебя, – вдруг говорит она, откладывая рубашку.
Я тут же вытираю руки, бегу наверх и натягиваю на себя самую скромную одежду. На самом деле я надеваю то, что у меня есть, – я не рассчитывала провести здесь столько дней. Оглядываю себя в зеркале, которое прикреплено к внутренней стороне дверцы шкафа. Будь моя воля, я бы не оставила и его.
– Так нельзя идти в церковь. – Молли появляется за моим правым плечом, наши взгляды встречаются в отражении.
Я рассматриваю себя снова, на этот раз намного придирчивее: никакой укладки, никакого макияжа, раньше я тратила сотни долларов, чтобы поддерживать образ успешного адвоката. Впервые за несколько лет я надела свободные темные джинсы, скромные туфли с незаметным квадратным каблуком и кремовую блузку – оставила незастегнутой лишь верхнюю пуговицу. В последний раз я выглядела так… да никогда. Даже самые серьезные судебные процессы и строгие судьи не вынуждали так скрывать тело.
– Думаешь, преподобный не в курсе, что я женщина?
Шутка остается без внимания.
– Сними это, – она устремляет взгляд на нить жемчуга, которая едва видна в разрезе блузки.
Я делаю так, как она велит.
– Застегни пуговицу и собери волосы.
Я беспрекословно выполняю приказы, стирая последние штрихи внешнего мира.
– У тебя нет юбки?
Я качаю головой. Она еще раз обводит взглядом отражение и в итоге кивает.
– Ладно, так лучше, – говорит она в непривычно высокомерном тоне.
Я – гадкий утенок, она – девственная лесная нимфа с золотой косой, переброшенной через плечо. Тонкая, изящная, трогательная, точно цветок в росе. Но одинокая. На ней аккуратное льняное платье длиной по щиколотки, перетянутое поясом. Скромная вышивка украшает горловину.
– Ты сама ее сделала?
Она теряется и на секунду ослабляет оборону.
– Да, мне нравится вышивать.
– Тебе очень идет.
– Нет времени на пустую болтовню, – отрезает она, покидая комнату.
Несмотря на жару, дом снова покрывается коркой льда.
8
В церкви нас встречают голоса девочек из хора. Те, что помладше, порой забываются и переходят на крик, но старшие осаживают их, дергая за рукава и косы. Заметив меня, они затихают, но, не признав авторитета, продолжают перешептываться.
Я устраиваюсь в первом ряду, Молли – в центре хора. Все девочки облачены в простые платья, на лицах безусловное принятие и предвкушение, которое делает их более прекрасными и в то же время уязвимыми. Агнцы на заклание.
Появление отца Кеннела, кажущегося еще выше в сравнении с детьми, приводит к установлению полнейшего порядка. Девочки тут же подскакивают и выпрямляются, как клавиши пианино, с которых резко убирают пальцы. Он занимает место перед хором и, очевидно, обращает вопросительный взгляд на Молли.
– Мэри, не ожидал тебя сегодня увидеть. Не представишь нас? – он мягко указывает в мою сторону. – Было бы крайне невежливо оставить меня в неведении.
– Простите, преподобный. Это моя сестра.
Он оборачивается и устремляет на меня ничего не говорящий взгляд. Тишина затягивается, желудок сжимается.
– Флоренс Вёрстайл, – отзываюсь я, не в силах терпеть заминку. – Хотела послушать, как поет хор, если это возможно.
– В этом мире все возможно, мисс Вёрстайл. – Он склоняет голову набок и едва уловимо улыбается, обретая ореол демонической притягательности. – Добро пожаловать в церковь Святого Евстафия. Чувствуйте себя как дома.
– Предпочитаю быть в гостях.
– Как пожелаете, – с вежливым кивком он возвращает внимание к воспитанницам.
Он больше не говорит ни слова, кивает девочке в первом ряду, и она начинает петь: тонкий голосок разносится по церкви, овладевая всеми потаенными уголками. Взмах рук преподобного заставляет присоединиться к ней двух девочек, стоящих в конце ряда. Нежный голос переплетается с другими и проникает в крепко запертый ящик – мое сердце. Я прикусываю щеку в попытке удержать непроницаемое лицо, но сдаюсь, когда к хору голосов присоединяется Молли, добавляя в него последний, недостающий элемент. Эти дети: их мечты, разум и души погибнут здесь, но они не знают этого, если бы знали, их голоса не были бы так чудесны, не заставляли бы меня, пусть и на миг, поверить, что небеса существуют.
– То, что вы делаете, – говорю я, подойдя к преподобному, когда занятие заканчивается, – это великолепно.
– А то, что делаете вы, опасно. – Он обращает на меня взгляд, такой острый и тяжелый, но полный… жалости? По спине проходит холодок. Сталь в его глазах погубит меня.
– Ты же не против, если я поговорю с твоей сестрой? – спрашивает преподобный у Молли. Она кивает, опустив взгляд, не смеет смотреть ему в глаза. Будь я умнее, тоже не стала бы. – Спасибо, Мэри. Пойдемте, мисс Вёрстайл. Я не задержу вас надолго.
Я следую за ним по коридору, увешанному картинами. Он открывает дверь и пропускает меня вперед. Церковь Святого Евстафия – его территория, а кабинет преподобного – его сердце. Здесь все как прежде: книжные шкафы по периметру комнаты, огромный дубовый стол, распятие на стене. Но мне неуютно, неуютно в сердце человека, которого я не знаю.
– Полагаю, мы не были представлены должным образом. Я священник церкви Святого Евстафия и общины Корка – Кеннел ОʼДонахью.
– Ирландец?
В венах Сида тоже текла ирландская кровь. Да что со мной, черт возьми, такое?
– По материнской линии.
Он протягивает мне руку. У него идеальные руки: изящные, рельефные, с длинными тонкими пальцами, как у статуи, как у пианиста. Явно не руки рабочего. Я не пожимаю ее – не выдержу, если он меня коснется.
Сажусь в кресло и на время погружаюсь в себя. Мне нужно перевести дух, ибо он бодр, плоть же немощна. И этим я привожу преподобного в замешательство – он застывает, словно натыкается на невидимую стену, как вампир, который не способен переступить порог без приглашения. Но оно так и не следует, и тогда он как ни в чем не бывало садится напротив и смотрит на меня изучающим взглядом. Пытается разговорить, проверяя, как долго я смогу сохранять безмолвие. Я поступала так же в зале суда, заставляя свидетелей выкладывать больше, чем им хотелось. Он сделал это, когда стоял перед хором. В тот раз он застал меня врасплох, и я поддалась. Сейчас же я посылаю ему уверенный взгляд в попытке смутить. Чувствую, как вспыхивают щеки.
– Флоренс Вёрстайл. Я о вас наслышан.
– И что же, я такая, какой вы ожидали меня увидеть?
Он не торопится с ответом.
– Вы ниже.
– Спасибо производителям туфель на каблуках.
На его губах играет слабая улыбка, но резко сходит с лица.
– Вы читали Библию?
– Да.
– И главу о распятии Христа?
– Моя любимая.
– Тогда вы знаете, что происходит с предначертанным. – Он подается вперед и тихо продолжает: – Оно сбывается.
Я тоже подаюсь вперед, копируя его манеру:
– Или его никто не пытается предотвратить.
– Вы очень умны, – без тени улыбки отмечает он, снова откидываясь на спинку кресла.
– А вы очень красивы.
– Это не комплимент. Ум – последнее, что вам пригодится в Корке. Ему это не нужно.
– Что же ему нужно?
– Умение не выделяться.
– Вы им тоже не обладаете.
– Я священник религиозной общины. Мне не положено им обладать. – Он опирается на подлокотник. – Очевидно, вы неблагосклонно ко мне настроены, но пытались сделать комплимент?
Судя по всему, эта мысль его забавляет.
– Чтобы стянуть маску, которую вы носите.
– И как успехи?
– Под ней оказалась другая.
– Вы любите свою сестру, верно?
– Зачем вы задаете вопросы, на которые уже знаете ответы?
– И вы видите происходящее здесь иначе, нежели остальные.
– Не понимаю, о чем вы.
– Я вам не враг, Флоренс.
– Да. Будь я вашим врагом, вы бы не знали, куда себя деть.
Он медленно и протяжно вздыхает – на миг разом стягивает все маски, которые надевал годами.
– Когда я видел Джейн в последний раз, она просила связаться с вами. Она умоляла вас уехать отсюда. И пусть для вас это ничего не значит, но я умоляю вас о том же.
– Я не уеду без сестры.
Он сжимает подбородок в задумчивости.
– Она не хочет уезжать?
– Когда-нибудь вы научитесь не задавать вопросы, на которые уже знаете ответы.
– Значит, вы намерены остаться?
– Только если не решусь на похищение. Что ваш Бог думает о похищении детей?
– От него родила юная девушка. Не думаю, что у него есть строгий кодекс касательно таких вещей.
– Вы точно священник?
Он позволяет себе горькую усмешку.
– Порой зло бывает необходимым.
– Так говорит Бог?
– Так говорю я.
В его взгляде что-то проскальзывает, но я не успеваю уловить – это тут же смывает волной.
– Доктор. Какой он?
– Лучше бы вам этого не знать, мисс Вёрстайл.
– А вы знаете?
– Не все. Он умен и знает главное правило сохранения власти.
– Разделять и властвовать?
– Не доверять никому, кроме себя.
– В списке моих контактов больше убийц и воров, чем вы когда-либо видели за свою жизнь…
– Он намного опаснее. И лучше вам с ним не связываться.
– Вы пытаетесь запугать меня?
– Я пытаюсь вас спасти. И нет, Флоренс, уверяю, я видел куда больше убийц, воров и лжецов, чем вы. Я же священник, – он посылает мне самоуничижительную улыбку.
– Чего вы хотите, преподобный? Моего отъезда? Без сестры я не уеду, но и увезти ее не могу. Какое вам до этого дело?
– Хочу поступить правильно.
– А кто поступит правильно с теми девочками, которые поют в вашем хоре? Кто защитит их?
– Я защищаю их.
– Неправда.
– Вы ничего не знаете обо мне, мисс Вёрстайл.
– О вас, отец Кеннел? О человеке, который продал душу за черное одеяние, крышу над головой и кусок хлеба?
– Разве преподобный Патрик поступал не так же?
Упоминание Патрика заставляет уязвленно умолкнуть – он попал в яблочко. Минуту я не могу проронить ни слова, теряюсь в небытии, пока стальные глаза преподобного наблюдают за моим падением, безмолвным, но неотвратимым.
Взяв себя в руки, вернув трезвость мысли, я устремляю взгляд на священника.
– Вы ничего не знаете о Патрике.
– Мы начинаем ходить по кругу.
– Когда моя жизнь рассыпалась на части, когда я рассыпалась на части, ваш Бог палец о палец не ударил, чтобы помочь мне. И вы следуете его примеру, поощряя все, что здесь творится.
– Бог никогда не посылает больше испытаний, чем человек может вынести.
– Должно быть, он считает меня очень сильной… Чем вы провинились?
По льду пошли трещины. Что-то в его лице изменилось – совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы понять: я попала в яблочко. Несколько секунд он сверлит меня взглядом. Один – один, преподобный.
– Бог, в которого вы верите, привел вас сюда. Чем вы перед ним провинились?
– Я провинился перед собой. Но не переживайте, мисс Вёрстайл. Свой крест я давно несу.
9
Как и все мужчины в общине, Питер Арго и его отец днем работают в поле. Также семья Арго занимается столярным делом – маленький островок того, что осталось после закрытия фабрики. Роберт говорит, они делают мебель для всей общины: столы, стулья, шкафы, кровати. Чинят все, что скрипит и плохо прикручено. Интересно, смог бы этим заниматься Сид? Нравится ли это Питу? В последние годы я потеряла связь с ними обоими.
Опилки шуршат под ногами. В конюшне пахнет сеном, деревом и лошадьми, которые так устают после тяжелого дня, что даже не обращают внимания на чужака. Одни лениво жуют сено, те, что поменьше и послабее, дремлют. Я подхожу к самой, как мне кажется, спокойной лошадке темно-карамельного цвета, но она занята ужином, поэтому недовольно ржет. Точно так же она отзывается на посягательство на ее седло, по поверхности которого я едва успеваю провести. Ладно, я поняла: мне здесь не рады.
Прежде чем подняться на второй этаж, откуда слышится звук ручной пилы, я изучаю стену, увешанную инструментами для конского снаряжения: удила, оголовья, уздечки, хлысты и сельскохозяйственная упряжь. Удивительно, что я помню названия, ведь была на конюшне всего раз с Филлом и представителями адвокатской элиты – порой их тянет на природу, но ненадолго. Также здесь хранится уходовый инвентарь, включая щетки и гребни. Помимо сундука, стоящего у стены и запертого на замок, все на виду. Одна из прелестей Корка – отсутствие воров.
Поднявшись по лестнице на второй этаж, я щурюсь – в глаза ударяют лучи закатного солнца. Причудливые тени маячат по стенам. Пила продолжает ходить из стороны в сторону, а управляют ею руки Питера Арго. Он работает отлаженно и четко, но с неохотой. Когда ненужная часть дерева падает на пол, он переходит к другой доске. С ним трудится Ленни, его пшеничные волосы светятся, словно нимб, в лучах вечернего солнца. Такие же волосы были у прежнего преподобного. Прежний преподобный. И единственный. Для меня. Ленни лишился детской припухлости, но остался плотным. Он обрабатывает распиленные доски наждачкой, но работает неуверенно и осторожно – он бы предпочел что угодно столярному делу.
Я помню Питера Арго ребенком, но за последние шесть лет он стал мужчиной, о котором я ничего не знаю. Кладя очередную доску к уже готовым, он проводит рукой по вспотевшему лбу. Его рубашка потемнела от пота на груди и под мышками. Выглядит он, в отличие от скучающего и медлительного Ленни, смертельно усталым, но не прекращает работу. Я делаю пару шагов, не оставляя им возможности не заметить меня. Первым взгляд поднимает Ленни, его глаза слегка расширяются, но не похоже, что он сильно удивлен. Он легонько хлопает Пита по плечу – совершенно лишенный романтики, но не заботы жест, который греет сердце. Пусть меня не было рядом, но у Питера был друг.
Пит морщится, но похлопывания не прекращаются, поэтому он вынужден поднять глаза – рык пилы затихает – с полминуты он смотрит в полной тишине, ее разрезает ржание лошади.
– Я пойду, – предлагает Ленни. – Ты знаешь, где меня найти.
Пит сглатывает и кивает, провожая его взглядом так, словно остаться наедине со мной – самое ужасное, что может случиться. Когда скрип перил и ступеней стихает, Пит возвращается к работе. Я подхожу ближе, и его челюсти сжимаются, точно я тигр, обнюхивающий добычу.
– Не хочешь смотреть на меня?
Он разделывается еще с одной доской и кидает в общую кучу, а после наконец поднимает голову.
– Это правда ты?
– Это правда я.
Я касаюсь его разгоряченного предплечья. Теперь у него такая же загорелая кожа, как у Роберта.
– Не так я представлял нашу первую встречу. – Он кладет пилу на стол и ставит руки в боки.
– Ты ее представлял?
– Надеялся, что ты хотя бы… – на миг он крепко сжимает губы, – поговоришь со мной.
– Прости. Джейн умерла, Молли так переживала. И я тоже. Я была сама не своя в те дни.
Я умираю от того, как ты похож на брата. Я погибаю от тоски по нему.
– И именно поэтому я на тебя не злюсь.
– Нет?
– Нет.
В порыве неловкости он хватает со стола скребок и начинает крутить в руках.
– Не хочешь говорить?
– Хочу, – признает он, краснея до самых ушей.
– Значит, мир? – я протягиваю ему руку.
Он кидает скребок к другим инструментам и оглядывает свои ладони.
– Я убирал в конюшне до этого – у меня руки в грязи.
– У меня тоже.
Он стягивает с плеча тряпку, вытирает руку и протягивает мне. Пожатие оказывается крепким, но жмет он не в полную силу. Боится причинить мне боль? Кожа грубая и шершавая, пальцы в ссадинах и мозолях – рабочие руки, каких не было раньше у Роберта. Каких никогда не будет у Сида.
– Мне нужно закончить с этими досками сегодня.
– Я не спешу.
Когда он принимается за работу, я оглядываю мастерскую и стол, заваленный инструментами столяра. Судя по виду, за ними, как и за лошадьми, тщательно ухаживают. Размеренному движению пилы время от времени ленивым ржанием отвечают лошади. Среди верстаков, лобзиков, ножовок и стамесок я чувствую себя странно, но это что-то приятное, разливающееся теплом в груди.
– Почему ты перестала отвечать на мои письма? – спрашивает Пит, разделавшись с последней доской.
– Не перестала.
– Я ничего не получал два с половиной года.
– Я писала тебе каждый месяц, даже после того как ты перестал отвечать.
– Я отвечал на все письма, которые получал.
Мы оба задумываемся.
– Как я и полагал.
– И что же ты полагал?
– Их кто-то перехватывал. Мне хотелось в это верить. Хотя более вероятным было то, что ты забыла обо мне.
– Я так не поступила бы.
– Но о нем ты забыла.
Я подавляю внезапно возникший ком в горле.
– Ты не знаешь, о чем говоришь.
– Молли не хватало тебя. Знаешь?
– Знаю.
– И мне тоже.
– Знаю.
Он еще раз вытирает руки и выдыхает, отходит к окну и запускает пальцы в волосы, надолго задумываясь о чем-то.
– Ты вернулась за Молли?
– Да.
Он подходит ближе и кидает тряпку на стол, опилки разлетаются.
– Тебя не было шесть лет.
– Я умею считать, но я ушла не просто так. Ты был уже достаточно взрослым, когда это случилось. Ты должен меня понять.
– Да, ты училась. Сид тоже хотел учиться.
– Не говори так, будто это я убила его.
– Ты… мое единственное воспоминание о нем.
– Это неправда. У тебя есть родители, дом и Корк, где он в каждом уголке.
– Думаешь, это то, что мне нужно? Призрак мертвого брата?
Я не отвечаю.
– Ты собираешься уехать и забрать Молли? – спрашивает он таким недоброжелательным тоном, что если я отвечу «да», он распилит и меня.
– Да. И я хочу предложить тебе поехать с нами.
Он усмехается, прикусывая губу.
– Это так не работает.
– У меня есть деньги.
– Дело не в деньгах. Дело никогда не было только в деньгах.
– Знаю, тебе страшно, но… – Я запинаюсь в попытке подобрать нужные слова.
– Но?
– Тебе здесь не место. И Молли тоже. Тут никому не место.
– У меня есть обязательства.
– Перед общиной?
– Перед семьей.
– У меня они тоже есть. Когда Джейн умирала, она молила увезти Молли.
И я намерена выполнить ее последнее желание, чего бы мне это ни стоило.
– Молли – мой друг.
– Это одна из причин, по которой я здесь.
– Хочешь, чтобы я обманул ее?
– Хочу, чтобы ты открыл ей глаза.
– У меня нет такой власти.
– У кого есть?
– Ты его уже встречала.
– Доктор?
Он кивает. И снова все упирается в одного человека.
– Что он такое?
– Говорят, что мессия.
– А ты как думаешь?
– Скорее, диктатор.
– Ты ходишь в школу?
– Сейчас лето.
– Ты пойдешь в школу?
– Я слишком взрослый, чтобы сидеть за партой.
– Тебе семнадцать.
– Я не хожу в школу с четырнадцати.
– Тогда откуда тебе известно, кто такой диктатор?
Он опускает взгляд и уязвленно бурчит:
– Понятия не имею, о чем ты.
Я не допытываюсь, но делаю мысленную пометку – выясню это позже.
– Как ты узнала, что я здесь?
– Мне сказал твой отец. Он не рад меня видеть.
– Он не рад чужакам.
– Вы с ним ладите?
Он пожимает плечами.
– Столяр из него лучше, чем отец.
– А у тебя… хорошо выходит?
– Не думаю, что это дело моей жизни. Но выбора нет. Либо это, либо целовать пятки преподобному, как Ленни.
– Зачем он это делает?
– Хочет занять его место.
– Не знала, что Ленни так амбициозен.
– Не амбициозен – религиозен. Он верующий до мозга костей.
– Но он все равно твой друг?
– Приходится мириться с некоторыми недостатками.
– Помню, раньше ты хотел быть астронавтом.
– Да нет, не очень.
– Тогда кем?
– Лет до десяти я думал, что стану инженером, после – что физиком-экспериментатором.
– Почему?
– Мне нравилось узнавать, как работает мир.
– Что случилось потом?
– Учитель физики уехал из Корка, и я понял, что это не вариант, – он невесело усмехается. – Сид терпеть не мог физику.
Я отвечаю ему улыбкой, позволяя себе пуститься в воспоминания.
– Скорее, он ее не понимал. Он был ужасен в физике. Почти так же ужасен, как и в геометрии.
– Но как устроен мир, он точно знал. Может, поэтому и ушел.
– Не говори так.
– В этом мы с Молли похожи. Я люблю его, но еще больше злюсь.
– Почему?
– Он подумал о благополучии той блондинки, в которую когда-то был влюблен, не о моем. – Он знает ее имя, но намеренно не произносит его, намеренно выделяет слово «той».
– Ее зовут Синтия. И речь шла не о ее благополучии, а о ее жизни.
– Почему ее жизнь важнее, чем его?
– Она не важнее. Все произошло в считаные секунды. Он хотел защитить друга.
Он смотрит на балки, держащие крышу, и краски покидают его лицо, губы становятся бледными и бескровными. Юноша исчез – теперь он сломленный мужчина. Как собрать его обратно? Я не способна собрать воедино и себя. После стольких лет…
– Разве нет на свете человека, ради которого ты сделал бы так же? Даже если это причинило бы боль людям, которых ты любишь.
– Это нечестно.
– Знаю.
– Я часто вспоминаю его.
– Я тоже… У меня не осталось даже фотографии.
– Хочешь, я принесу?
Я хочу. Но нужно ли мне это? Иногда то, что мы хотим, и то, в чем нуждаемся, не одно и то же. Это разбередит старые раны, которые никак не заживут, но я соглашаюсь. Моя любовь к нему сильнее здравого смысла. Если бы можно было повернуть все вспять, я бы осталась в Корке, приняла бы любую религию, лишь бы спасти Сида и быть рядом с ним. Когда-нибудь это убьет меня.
– Молли боготворит Доктора, – признает Пит.
– Почему?
– Он стал ей как отец. Задолго до того, как Джейн слегла. Он… умеет располагать к себе, когда нужно.
– Что же ему нужно?
– Думаю, он это уже получил. Безграничную власть, всеобщее уважение, любовь и преданность. Люди благоговеют перед ним.
– И ты?
– Я вынужден.
– Как он это делает? Запугивает? Пытает?
– Нет. Он просто делает так, что у тебя не остается выбора.
– Он делал это и с тобой?
– Да.
– Что именно?
– Задавал вопросы.
– Какие?
– О грехах и слабостях. О потаенных желаниях. Он знает все обо всех и поэтому может всеми управлять.
– И Молли?