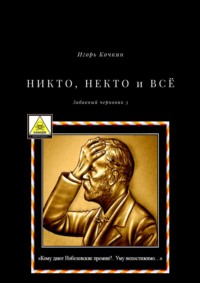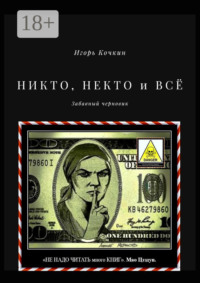Полная версия
Бела + Макс. Новогодний роман
Я старался объяснить:
– Дорогая, телевидение – это как велосипед: пока крутишь педали – едешь, перестал – упал.
– Это по-твоему, – отвечала жена.
– А по-твоему?
– По-моему, телевидение – это большой-пребольшой публичный дом. Бордель!
И если перед моим уходом на ночной монтаж (а такое бывало частенько, когда моя неготовая киношка стояла в завтрашнем эфире и требовалось срочно довести её до ума), подвёртывалась маленькая Миланка и спрашивала ангельским голоском:
– Ма-а! А ска-уку мы бу-им сё-ня ти-тять?
Мама (вся хмурая, как грозовая туча, «Dunkle Wolke»[15]) отвечала:
– А вот завтра утром наш папка с работки придёт и сказочку нам всем и расскажет!
«Кошмар»! Сплошной кошмар!
И деньги в семье (вроде как) перестали играть хоть какое-то значение. Когда их не хватало, они что-то значили. Стало хватать (бывало, с избытком) – перестали что-то значить. Будто они появлялись из ничего. Будто у нас был собственный станок (как у ФРС): надо деньжат – подпечатали.
То же было и с жильём.
Когда жили в однокомнатной нашей первой квартирке и родилась Мирослава – стали ощущать некоторую стеснённость. Не задыхались, конечно, но некий дискомфорт появился. И тут же мы (как бы само собой) обменялись на двухкомнатную, с доплатой – в те-то советские времена.
Родилась Миланка – опять ощутили неудобства. Обменялись снова (ещё раз, как бы само собой) с доплатой, в более модненький райончик Алма-Аты – и забыли обо всём. Обставились мебелью, купили дорогущую по тем временам собаку – белого бультерьера, нашего Аякса.
(Что ещё надо, чтобы достойно встретить старость в окружении задорных внуков и очаровательных внучек?)
Жену как зациклило:
– Собака – на мне! Дети – на мне! Дом – на мне! Гости – на мне! Всё – на мне!
Я спросил:
– Дорогая, может быть, нам родить третьего?
Жена с сарказмом:
– Или третью… девочку?
Обиды, недомолвки, подозрения… все они теряли свою значимость, когда мы оставались вдвоём, когда больше никого рядом не было, кроме детей, посапывающих в своих кроватках в соседней комнате. И (тогда) общей радостью становились мои «ненавистные киношки», которые надёжно закрепились в эфирной сетке. И даже не закрепились, а вросли в неё: кто бы захотел – не выбил. И (тогда) общей радостью становились увеличившиеся в размерах гонорары. А гонорары (по тем-то временам) были ой-ой-ой: меньше пяти-шести сотен в месяц не выходило, больше – да. В «Автомобильном транспорте», в первой моей редакции, где я начинал, о таких деньгах можно было и не мечтать.
Простой приличненький автомобильчик в те времена, за железным занавесом («страшным и ужасным»), стоил где-то тысяч семь.
Теперь, в Минске, между нами не стояли ни моя работа, ни мои непутёвые друзья.
Теперь с женой мы были неразлучны, как сиамские близнецы.
Бела встала с кресла. Оглядела комнату. Подошла к письменному столу, где в беспорядке, сикось-накось лежали книги. Выбрала среди них томик Паустовского. Открыла его и тут же прочла:
– «Удивительна всё же судьба многих первых книг. «Разбойники» Шиллера написаны где-то под лестницей, прекрасные стихи Бёрнса – в шотландской хижине с такими узкими окнами, что сквозь них едва просачивался свет, многие рассказы Чехова – на подоконнике в бедной московской квартире, сказки Андерсена – в дешёвых номерах провинциальных гостиниц».
Я ответил:
– Судьба многих первых книг не удивительна: они не могли быть созданы в иных условиях – внешний антураж всегда вторичен.
– Он не «вторичен», – уточнила Бела, – он не принципиально важен. – Потом она рассмеялась. И продолжила: – Паустовский тоже так считает: «Эти убогие жилища озарены в нашем представлении светом молодости и таланта и кажутся нам великолепнее самых красивых и величественных дворцовых зал». Как (замечу попутно) и эти «царские покои» из двух комнат, которые нам сдала за 50 долларов Нина Николаевна и которые стали нашим временным домом в Минске, на расстоянии 144 километров от Бобруйска.
– И в которых не нашлось места для Мирославы и Миланы, – уточнил я. – В остальном – да, настоящая идиллия.
– Idyllium в переводе с латыни – это «картинка», «небольшое изображение»: тёплый домик, занесённый снегом по самые окна, где царит вечный уют и вечный покой… Похоже? – спросила она.
– Sehr schönes Bild[16], – «угрюмо» согласился я.
Уже спустя годы, когда нас, «искалеченную компанию», пораскидало кого куда (по всем континентам и частям света), открылось вдруг нечто поразительное: а ведь не было места на Земле, где бы мы жили более изолированно, чем в Алма-Ате, за той дверью-калиткой. И более защищённее от разных напастей.
Дружба и предательство, профессионализм и непрофессионализм, любовь и ненависть, успех и зависть… – всё это всегда существовало и сосуществует вместе, где-то рядом, почти неразрывно одно от другого. Мы наблюдали это на чужих примерах, не на своих. (Не повезло?)
В Алма-Ате существовали мы и существовал внешний мiр, в который мы (как в разведку) совершали плановые вылазки, чтобы потом скорее нырнуть назад, как в некую безопасную пространственно-временную зону.
И наши проблемы с проблемами внешнего мiра стыковались мало.
Такое впечатление, что внешний мiр и мы существовали параллельно, чуть ли не автономно. (Возможно ли это?)
Нас всё устраивало? Нет. Больше было такого, что категорически не устраивало. И не могло устраивать. Однако нарушать веками устоявшееся равновесие (неравновесие) чёрного и белого в мiре, снаскоку изменять то, что вступало в противоречие с нашими принципами, не возникало никогда.
Наивных таких желаний, как совершить «мировую революцию», не было. И не могло быть.
Проблема самореализации? Не существовало и такой проблемы.
Познавая мiр, мы познавали себя. И познавая себя, мы познавали мiр.
И было движение. (Или фикция движения?)
Но тогда жизнь била ключом. Сейчас что-то произошло. Что? Изменился мiр? Нет. (В главном он остался прежним.) Произошли какие-то другие поломки? Где? В конкретно какой части механизма мiроустройства?
Может, пришли в негодность какие-то важные узлы в конструкции наших «Я»: выработался их предусмотренный ресурс и требуется немедленный капремонт?
А запчастей, чтобы заменить изношенные в хлам детали на новые, надёжные и долговечные, нет.
И могут ли они (эти запчасти), в нашем конкретном случае, быть?
Через считаные секунды – снова телефон: звонки короткие – междугородний!
Борька забыл что-то договорить? Жена выхватила телефонную трубку прямо у меня из-под носа: не зевай.
– Алло! Алло! Говорите!.. – И через мгновение уже более ровно, но всё же с нотками радости в голосе (умиления): – Алма-Ата? Костя, ты? Салам!.. И тебя с наступающим!.. Что с Максом? Он здесь, рядом: лежит пластом… Не пьян, тьфу ты. Ничего, говорю, не случилось.
Теперь Бела говорила совсем спокойно:
– Почему лежит? Спроси сам. Передаю Максу трубку.
Надо же, как совпало: сначала Борька, не успели опомниться – Костя: сюрприз за сюрпризом.
Куратов был одним из немногих, кто не снялся с места, а остался в Алма-Ате. Несмотря ни на что. Решил на собственной шкуре испытать то, что было очевидно в прогнозах. Что ж, каждому своё. Как он там?
При последнем разговоре, год назад, Костя говорил, что рулит новой радиостанцией, ориентированной на музыку. И намекал с иронией, что есть, мол, некоторые «объективные» трудности.
И Куратов, как и Борька, с места в карьер, и мысли опережали слова:
– Что это там Белка: сердце-сердце! Ему «не хочется покоя»? Загулял, чертяка?! Сознавайся! Как это было в 1976-м, когда после вступительных в универ ты не соизволил явиться на собственное зачисление? – произнёс, как вопрос-шутку из Прошлого, Костя. – Так?
Шутка не состоялась, потому что мне пришлось ответить по существу, как есть, из Настоящего: я – в положении классическом, ручки на груди, не хватает свечечки.
(Зато Бела, так, чтобы это было слышно только мне – тоже по существу, – откомментировала:
– А ведь Костя попал в «десятку». Да, 1976 год – это реперная точка, критерий отсчёта в движении из Настоящего в Будущее. А сколько их было – этих реперных точек – в нашем Прошлом? Наверное, не одна. И не две. И не три.
Никогда прежде она не пользовалась этим выражением – «реперная точка».
Даже захотелось спросить:
– Это, по-твоему, то же самое, как, принятая за критерий отсчёта температура в 99,975 градусов по Цельсию, при которой вода закипает?)
А Куратов тем временем продолжал:
– Ах, так не сердце, а сердечная недостаточность? Ты меня совсем запутал. Я тебя не узнаю. Давай лучше о другом, а то и мне давно пора верёвку мылить. Шучу, шучу, шучу! И не шучу.
Чувствовалось, что и для этого разговора времени в обрез. У Бори отщёлкивали шекели, у Кости – тенге. Схема разговора тоже была похожей: приедешь – не приедешь? Приеду – не приеду? А хотелось бы, как хотелось! И чтобы было как прежде – достархан с мантами, огромное блюдо с дымящимся шашлыком, рядом – зелёный лучок, петрушка, укроп, отдельно – фруктики, дыньки, персики, и ведро – не меньше! – портвейна.
Когда я положил телефонную трубку на аппарат, мы с женой переглянулись: такова жизнь, они – там, мы – здесь, а раньше нам хорошо было вместе.
Мы живём, и почему-то живём в уверенности, что идём по жизни. Да-да, идём, а не ведомы.
Мы уверены, что идём самостоятельно. И шагаем в точном соответствии со своей волей. Нелепый, наивный самообман.
Если не валять дурака: мы идём, потому что ведомы.
Вопрос: кем ведомы и почему ведомы?
Ещё в школе, когда учились в десятом классе, меня и Куратова иногда путали:
– Вы (часом!) не братья?
Мы не спорили: конечно, мы – братья. Хотя наша похожесть состояла в одном: в одинаково-возмутительной длине волос. В длине антишкольной и антисоветской.
В Алма-Ате, как и на территории всего СССР, бушевала пандемия битломании!
Юные обожатели ливерпульской четвёрки собирались в подворотнях (и не в подворотнях – тоже) и без конца крутили на магнитофонах с бобинами «Любовь нельзя купить», «Леди Мадонну»… Поклонники «Битлз» были гонимы школой, гонимы родителями. Впрочем, одно дело – втихаря заслушиваться английскими «жуками», совсем другое – отпустить, как у настоящих битлов, волосы. Мы – Куратов и я – позволили себе это.
Может, это обстоятельство большей частью и вводило в заблуждение спрашивающих нас:
– Вы (часом!) не братья?
Битломания была настоящей катастрофой!
Методы, изобретаемые для борьбы с носителями вируса, часто были малоэффективны, иногда – неэффективны вовсе. Длинноволосиков вылавливали в школе с ножницами. Родители вели своих отпрысков в парикмахерские. А волосы отрастали вновь. И вновь это вызывало бурю негодования. Хорошо, что не додумались до более радикальных способов, как то скальпирование, или отсечение голов: тогда волосы точно не отросли бы. Спасибо КПСС и лично Леониду Ильичу, что не дошло до этого! Спасибо за пластинки «Битлз», которые сначала выпускались «Мелодией», а потом летели в мусорные вёдра. Спасибо за плакаты и фотографии битлов, которые уничтожались всеми возможными способами!
Родители Куратова (и мои тоже) скрипели зубами, но не устраивали показательных истерик по поводу возмутительно-модной страсти по «Битлз».
Школьные учителя не скрипели зубами, а действовали, используя все возможные и невозможные методы воздействия на неокрепшие умы своих бестолковых учеников. Правда, не в нашем случае: против лома нет приёма. Директору школы, разъярённому нашей неслыханной наглостью (мы относились к замечаниям учителей так, словно их не слышали), Куратов так прямо и сказал:
– Да я на вас в партком напишу! В суд подам: вы мешаете мне быть похожим на Карла Маркса! Я вот ещё бороду отпущу.
Что больше напугало директора – угроза судом или напоминание об авторе «Капитала», – было неясно. Тем не менее короткая Костина речь охладила пыл школьной инквизиции. От нас отстали. Нас перестали замечать (превентивный ответ), будто мы не существовали вообще.
Свою роль здесь сыграло и то обстоятельство, что с успеваемостью у нас всё было в порядке. Больше того – одинаковую и хорошо известную учителям слабость мы питали к математике, пользующейся в те времена особым почётом (если по математике было «пять», то и по другим предметам не составляло особого труда получать отличные оценки).
От математики (скорее всего) исходили истоки другой нашей слабости – к шахматам.
– Как думаешь, брат? – спрашивал я. – Партейку-другую?
– Всегда готов! Как пионер! – тут же отзывался Куратов.
И мы шли ко мне. Почему ко мне? У Кости не было своей, отдельной комнаты. У меня была.
Были у меня и магнитофон, и записи «Битлз», от которых исходили – пьянящие нас! – магнетические флюиды.
Мои апартаменты с единственным окном, выходящим в сад, на втором этаже старенького, довоенной постройки дома больше походили на келью – узкую, длинную и мрачную.
Чтобы попасть в неё, следовало пересечь всю квартиру, потом выйти в тёмный, без единого светильника, коридор, по обе стороны которого располагались кладовки (там хранились наши соленья-варенья и другие припасы), потом пройти этот коридор и только после этого упереться в дверь моей кельи.
Подслеповатый Куратов частенько открывал эту дверь лбом.
Обставлена моя келья была, соответственно, по-монашески.
У окна стояли крепкий деревянный стол, рубленный одним топором, и такой же стул. Чуть ближе к двери справа – деревянная кровать, слева – всю стену, от пола до потолка, занимали книжные полки (такой же грубой ручной работы – всё в одном стиле). Ещё ближе к двери – простой деревянный шкаф. Вот и вся обстановка.
Мало оживлял аскетичность моих покоев огромный зелёный – как лужайка! – ковёр во всю стену, который висел над кроватью. Летом ветки с вишенками и черешенками заглядывали прямо через подоконник, внутрь. Даже в солнечный день здесь было чуточку мрачновато. Свет поглощала буйная зелень деревьев за окном. Свет поглощали тёмно-зелёные, с золочёным тиснением обои на стенах.
И была ещё одна важная и необъяснимая особенность моей кельи: в её пределах находилось некое беспыльное озоновое пространство, где хорошо дышалось.
И ещё – сюда не проникали никакие посторонние звуки. Мои монашеские площади были словно изолированы как от остальной части родительской квартиры, так и от внешнего мiра. Здесь мы могли сутками молчком сидеть, склонившись над доской из 64 чёрно-белых клеток, и без конца двигать шахматными фигурами.
Шестнадцать моих фигур в начале партии, шестнадцать – Костиных. Потом соотношение с обеих сторон менялось: у меня – больше, у Кости – меньше; у Кости – больше, у меня – меньше. Если партия заканчивалась, мы расставляли фигуры в исходное положение и следовал классический, как первый крик новорождённого, ход Е2 – Е4.
С возрастом от шахматомании, невзирая на Костину и мою занятость, мы не избавились.
Чем становились старше, тем сильнее нас тянуло сесть за шахматную доску с шестнадцатью фигурами, стоящими напротив шестнадцати фигур противника. В ходе поединков нас интересовала одна-единственная «пустяковина» – выделение общего и повторяющегося в различных комбинациях защиты-нападения, нападения-защиты.
Мы условились не допускать в игре случайностей. Ошибки (стечения обстоятельств) в расчёт не брались. И браться не могли.
Зная наизусть сильные и слабые игровые качества друг друга, из партии в партию мы отслеживали те самые неуловимо-эфемерные закономерности развития и завершения каждой схватки. Мы кропотливо изучали, просчитывали, почему, к примеру, ход чёрного коня на С4 после блестящей атаки белых в центре доски вызывал мат белым ровно через семь (не через восемь!) ходов. А если конь не уходил на С4, мата можно было вообще избежать и свести партию к ничьей.
Партия заканчивалась – начиналась следующая…
Много позже, когда мы обзавелись семьями, наши исследовательские турниры не прекратились. Изучение закономерностей вечной чёрно-белой войны продолжалось.
– А что, если… мы вернёмся на три хода назад и пойдём другим путём? – спрашивал Костя.
– А если… третьим путём? – шутил (и не шутил) я.
– А если… сотым? – шутил (и не шутил) он.
Как и прежде, Куратов захаживал ко мне. Но теперь уже не в мою келью – родители к тому времени жили в Бобруйске, – а в мой кабинет, в наших с Белой апартаментах.
Рядом с доской стояли две рюмочки с коньяком и тарелочка с ломтиками лимона, посыпанными растворимым кофе с сахаром. И, как и прежде, нам никто не мешал. Мы, как и прежде, могли сражаться сутками. Жена смотрела на нас как на недоразумение, которое не имеет объяснений.
Иных ассоциаций мы не вызывали.
Иначе как мистикой нашу шахматоманию было не объяснить: какая-то сверхъестественная сила приковывала нас к доске из 64 чёрно-белых клеток.
Через лет двенадцать-тринадцать после школы, когда я уж давненько не пользовался общественным транспортом, угораздило меня проехаться на троллейбусе. На обыкновенном троллейбусе, который двигался по проспекту Абая в сторону микрорайонов.
Куда я ехал? По каким несрочным (срочным) делам? Или вовсе без всякого дела? Нет, этого не помню.
(Может, я хотел почувствовать разницу между моим Настоящим и моим недавним (или «очень давним») Прошлым, когда у меня не было никаких служебных авто и телевизионные РАФики на улицах воспринимались не иначе как микроавтобусы, которыми пользуются особые люди? Смешная, комедийная ассоциация.)
И вот стою я на задней площадке троллейбуса и вижу среди пассажиров строгую сухонькую старушку, которая во все глаза смотрит на меня. Да, это была она – Дина Михайловна, наша математичка. Она первой узнала меня. И завалила вопросами:
– Макс, это ты? И без длинных волос? Где ты? Как ты? Что делаешь? Чем занимаешься?
Я спросил:
– А телевизор вы разве не смотрите?
Нет, телевизор она не смотрела. Недосуг ей смотреть телевизор. И газет она не читала. Как не читала при коммунистах, так не читает и теперь, при демократах.
Непародоксальный парадокс: из всех знакомых (и незнакомых) Дина Михайловна была единственным человеком, кто не знал, кто есть я.
Наша математичка даже мысли не допускала, что я могу стать тем, кем я стал.
– Телевидение? – в полной растерянности переспросила она. – Журналистика?.. – В глазах её уже не было знакомого жизнерадостного блеска, была скорбь: держась сухой рукой за поручень, передо мной стоял теперь человек, который тщетно пытался осмыслить нечто непостижимое и нечто глубоко трагичное.
Направляясь к выходу из троллейбуса, она не улыбнулась мне и не сказала дежурное «пока!», а только сказала напоследок:
– Ты меня разочаровал.
Да, я разочаровал нашу математичку. (Хорошо было бы, что только разочаровал.)
Я умер для неё в тот самый день, когда мы через двенадцать лет после школьного выпускного бала случайно встретились в троллейбусе.
(Если бы этого не произошло, Дина Михайловна продолжала бы жить в галлюцинациях?)
Надо ли было разрушать её представления на мой счёт? Я мог запросто сказать, что преподаю математику в университете. Я мог намеренно соврать, чтобы выглядеть в её глазах человеком здравствующим, живым. (Сделало бы это её счастливее?)
В представлении нашей Дины я, состоявшийся репортёр, редактор, режиссёр, телевизионщик – безоговорочный мертвец. Поскольку моё Будущее для неё всегда ассоциировалось только с физматом, и, конечно, с блестящей математической карьерой, и ни с чем другим.
Я растоптал её представления о том, что есть нормальное в этой жизни и что есть ненормальное. Угораздило же меня в тот день прокатиться в троллейбусе!
Жизнь – та же шахматная партия…
Я по-прежнему на диване в положении классическом: руки на груди (не хватает свечечки).
Бела, закутавшаяся в плед до подбородка, в кресле, рядом со мной.
– Что есть наше Прошлое? Иллюзорная субстанция… – сказала негромко она. – Такое впечатление, что то, что было вчера, не было.
– Было, – ответил я. – Прошлое, по Оруэллу, надо контролировать (чтобы оно было). Контролируя Прошлое, мы контролируем Будущее.
– «Отличное» суждение, один в один по Грибоедову: «свежо предание, а верится с трудом». Прелестное у нас образовалось предпраздничное занятие – с улыбкой до ушей пройтись по высказываниям великих…
– Оптимистов или пессимистов? – поинтересовался (чуть съязвив) я.
– И тех, и других. – Бела не услышала мой безобидный сарказм. – Я полагаю, что нам не помешает включить в программу нашей вечерней посиделки тему о реперных точках Прошлого. Ты хочешь спросить: о каких конкретно точках? – Она внимательно посмотрела на меня.
– Хочу.
– Таких, как лето 1976-го, о котором напомнил Костя. Как ноябрь 1982-го. Или ноябрь 1983-го… Про ноябрь 1993-го тоже не помешает вспомнить. Нет?
– Тогда уж никак не обойтись и без лета 1974 года, – добавил я.
– Принимается. – Бела продолжала внимательно смотреть на меня. – Тогда вперёд в Прошлое, чтобы контролировать, по Оруэллу, Будущее. А что там за крамола такая случилась летом 1974 года?
Было около полудня, когда я не спеша шагал вверх по улице Жарокова.
Алма-атинское июльское солнце палило нещадно. Тротуар раскалён так, что хотелось снять туфли и идти босиком.
Я дотянул бы до ближайшего магазина, где можно было утолить жажду лимонадом, но зашёл в фойе двухэтажного здания, которое образовалось по левую руку, не обратив внимания на вывеску с правой стороны от дверей.
Около автомата газированной воды стоял офицер без кителя, без галстука, в расстёгнутой на пару верхних пуговиц рубашке. Выпив стакан, он вновь наполнил его и тут же осушил одним глотком.
– Бог троицу любит, – сказал я.
Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа – бесплатно: достаточно нажать на кнопку. Офицер нажал указательным пальцем на бесплатную кнопку.
– Какие не по возрасту остряки объявились у нас! – ответил с улыбкой он, осушив третий стакан.
– Не по возрасту? – удивился я. – Мне пятнадцать лет!
– Неужели так много? – удивился теперь и он.
После чего мы зацепились языками, и завязался разговор. О жаре на улице Жарокова; о том, что я (сам не ведая, куда меня занесло) нахожусь в редакции газеты «Боевое знамя» Среднеазиатского военного округа; о том, что передо мной – завотделом литературы и искусства майор Звягинцев; о том, что мне приходилось бывать в ситуациях и похлеще сегодняшней.
– Неужели «похлеще»? – по-актёрски изумился майор. – Например?
– Например, когда моим собеседником был Ярузельский (тот, что Войцех). Это было в Легнице, где по воскресеньям можно было наблюдать, как польские девочки шли в костёл на первое причастие: их одевали, как невест, в белые платья… Ещё – когда случилось познакомиться (тоже в Легнице) с Гречко (с тем, что министр обороны). Ещё – когда мы вели долгие разговоры с Жуковым.
– Тем, которого зовут Георгий Константинович? – рассмеялся Звягинцев.
– Точно! – не рассмеялся в ответ я. – Кто вам об этом доложил?
– Сорока на хвосте принесла!
После этого разговор перешёл на новый уровень. Поскольку языком молоть – не мешки таскать, майор предложил мне изложить на бумаге отчёты о моих более чем «странных», встречах. (Может, их и не было вовсе, взаправду?)
– Почему бы и нет? – ответил я.
– Почему бы и нет? – согласился он. И дал мне срок две недели на всё про всё.
Самый короткий рассказ у меня получился о Гречко – страниц десять на машинке. О Жукове – около двадцати страниц. О Ярузельском – больше тридцати. То, что такие объёмы не для газеты, я в спешке как-то упустил из внимания: азартное желание поскорее утереть нос майору было сильнее, чем прагматичный и холодный взгляд на реальность. Что печатает «Боевое знамя» (в каких объёмах, в каких формах), я не знал тоже.