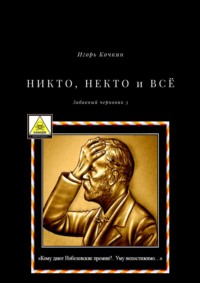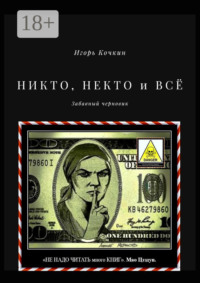Полная версия
Бела + Макс. Новогодний роман
По Тэтчер (той, что Железная Леди), «России за глаза хватит и 15 миллионов, чтобы обслуживать скважины и рудники…» Она лучше всех знает, что надо северным туземцам, а что – «позолоченным избранным». И чтобы всё было в шоколаде.
Думаешь, меня с перепоя занесло на повороте, в порыве супергуманистических откровений?..
«Да уж, – подумал я, – самое время включить диктофон, чтобы зафиксировать Борькин предновогодний спич».
Я не перебивал Левитина.
– А что Горбатый? – спросил он. – За что он отхватил Нобелевскую премию? Не за кровь, пот и слёзы, которые случились благодаря его «созидательной» деятельности и приближению всего мiра к демократии и свободе? За ЭТО.
– …
– И последнее. Из аннотации к труду Телушкина: «эта книга… может служить великолепным пособием для педагогов». Конец цитаты.
Я не перебивал Левитина.
– У матросов (педагогов) есть вопросы? – произнёс он. – Макс, ты ещё не созрел, чтобы стать «матросом» и передавать свои знания молодой поросли?..
Эх, Левитин-Левитин! Да, мне только и остаётся, как стать педагогом.
Тему первой «матросской» лекции можно обозначить так: «М. С. Горбачёв, апрель 1985 г.». И начать её с эпиграфа из «крылатых» речей генсека ЦК КПСС: «Говорю то, что думаю. Точно так же, когда обо мне говорят, что думают, а даже не думая, говорят. Почему же я, думая, не могу сказать?..» Увертюра в тональность. «Сильная» мысль.
В Алма-Ате (в той, в другой жизни) я уже состоялся как наблюдатель. Нейтральный такой – ни за красных, ни за белых! – созерцатель вечного столкновения двух сил: энтропии и регенерации. (Не состоялся бы – то и денег мне не платили за мои наблюдения в политике, в экономике.)
Другой вопрос: каким я был наблюдателем – слепым или зрячим?
– Наблюдатель! Ау! Где ты? – это я обращаюсь к самому себе. – Сегодня ты перестал наблюдать, что происходит вокруг.
Три тысячи (плюс-минус) человеческих особей (из категории особенных!) в капиталистической РФ живут кучеряво! И кучерявее не придумать: дворцы, яхты, самолёты…
Сегодня ты перестал наблюдать, что этих трёх тысяч обслуживают пятнадцать миллионов, которые живут не так кучеряво, но более-менее сносно.
Сегодня ты перестал наблюдать, что остальные шестьдесят миллионов (плюс-минус) – в бедности, а семьдесят (плюс-минус) – в нищете.
Сегодня ты перестал наблюдать, что всё нынче по понятиям, по демократическим: богатые – богатеют, бедные – беднеют, а нищие, вообще, избыточное население, они – лишние.
(Страсть как забавно беседовать с самим собой!)
На это я должен ответить:
– Зачем наблюдателю быть зрячим (или слепым), если сегодня он глухонемой?
Это в Алма-Ате мы что-то из себя представляли, когда была «цензура» и «несвобода».
Сегодня мы – ноль (без палочки), когда нет никакой «цензуры» и есть полная «свобода».
Выходит, что я созрел.
Боря прав: мне только и остаётся, как стать педагогом, срочно!
Телефонный аппарат, благодаря которому мы только что общались с Левитиным, стоял на полу, среди вороха разной макулатуры: газеты, журналы.
Я взял первое, что попалось на глаза. Это была «Советская Россия», номер от 15.09.1994 г., и прочитал: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её народов в единое, крепкое, централизованное государство…»
Кто же автор этих «светлых» мыслей? Вот, нашёл: Генри Киссинджер.
Политика. Ваньсуй[13] политика!
Без политики никуда. Политика – на работе. Политика – дома. Политика – везде!
Я и существовал всегда где-то рядом с ней. Потому что наблюдал за всем происходящим в жизни (окрест себя) будто бы со стороны и в то же время не мог отделаться от ощущения, что и сам я внутри всех процессов. А как иначе? Вся пресса, ТВ, обслуживающие власть, были под бдительным партийным оком. Чиновники-коммунисты определяли нам и зарплаты, и размеры гонораров. И никуда от этого было не деться.
Выходит, политика меня и кормила.
– И вскормила! – зло добавлял отец. – А что ж теперь-то не кормит? Времена не те? Значит, лучше «плохая» КПСС, чем «хорошая» демократия?
Логика у отца была железной.
Политика перестала меня кормить.
Мне теперь не надо напрягаться, чтобы быть наблюдателем, как раньше. Хотел взлететь и взирать на всё с высоты, не замарав крылышек, – получи.
– За что боролись, на то и напоролись! – продолжал отец.
Я не сдержался и (как-то) сказал:
– По логике Цицерона, если нам в Алма-Ате (и до, и после разлома эпох) было хорошо, там и Отечество. С одной стороны, это можно воспринимать как утверждение. С другой стороны – со знаком вопроса. Как правильнее поступить?.. Подсказка к правильному ответу: у Ключевского есть такой «спорный» постулат: «Когда умный спорит с дураком, то получается спор двух дураков».
Я намеренно хотел запутать отца. И я добился своего.
Он задохнулся от переполнявших его противоречивых эмоций.
– Дурак! – ответил он разочарованно. – Извини, конечно, за прямоту.
Он мог бы не извиняться.
Я смотрел на него и завидовал ему. Как здорово, когда всё укладывается в простую схему: здесь – чёрное, а здесь – белое!
Во время одной из пикировок в качестве лирического отступления я предложил отцу покумекать над анекдотом о двух скелетах.
– О чём – о чём? – с вызовом переспросил отец, сделав вид, что не расслышал.
– О двух скелетах, – повторил я.
– Мели, Емеля, – твоя неделя, – скептически разрешил он.
– Встречаются два скелета, разговорились. Один спрашивает: «Ты в какое время жил?» Второй: «Да во времена Брежнева!» Первый: «А умер когда?» Второй: «Да в его же время. А ты в какое время жил?» Первый: «Во время перестройки!» Второй: «А когда умер?» Первый: «Да, я ещё живой!»
Реакции никакой – ни улыбки, ни реплики. После красноречивой паузы отец спросил:
– Сам придумал?
Я не успел и слова сказать.
– Понятно, – добавил он сухо.
А есть ещё другая аксиома, нецицероновская: там хорошо, где нас нет!
…что такое перестройка?
– А хрен её знает, – заковыристо отвечал Борька во времена «грандиозных» горбачёвских реформ. – Это вам надо газетки внимательнее почитать.
Газетки (самые «продвинутые»!) по отработанной методичке просвещали народ: если твои мысли не согласуются с идеями перестройки и демократии – значит, у тебя «совковое» мышление, и в этом корень всех проблем. Если ты не вписался в новую жизнь – значит, ты «совок»!
Слово «совок» превратилось в нечто такое, от чего шарахались, как от чумы. Кроме, разумеется, Левитина. Он предлагал:
– Хотите, я выйду на улицу и крикну: «Да, я – совок!» Хотите?
Никто и никак, помнится, не отреагировал на Борькин вызов. Это было опасно – во-первых. Это никак не согласовывалось с духом времени – во-вторых. Все почему-то из кожи вон лезли, чтобы их поступки и мысли согласовывались с духом времени.
Повезло или не повезло тогда Борьке? Левитин, предположим, – исключение. Он – не в счёт.
А сколько т. н. не-совков купались в иллюзиях о закордонных молочных реках и кисельных берегах, заглотив наживку мифа о капиталистическом изобилии (в виде модной импортной тряпки, в виде потрёпанной (или непотрёпанной) иномарки, в виде сказочного быта, увиденного из окна туристического автобуса, в виде сытой и беззаботной жизни в условиях частной собственности (святое!), свободы предпринимательства (святое!) и свободы слова (святое святых!)? Таких было не счесть.
Мы (карта не так легла) никогда не питали иллюзий, что есть на земном шарике некие заповедные, райские уголки, где у людей не жизнь, а сплошной праздник, где всё находится в космической гармонии. Ни раньше, ни теперь. (Не повезло?)
Борька по этому поводу выражался образно:
– Что там, что здесь – один хрен. Только вид сбоку!
Относительно того, кто правит мiром, у нас сомнений тоже не было. Ни раньше, ни теперь.
Как это было объяснить отцу?
Как объяснить, что политика – это такая игра? Игра опасная и игра азартная, где главные действующие лица пребывают в самодовольной уверенности, что от них может что-то зависеть: выход из тупика или преодоление краха.
Это почти как в руской сказке: Змею Горынычу рубят голову, а на её месте вырастают новые зубастые пасти. Однако оптимизма в призывах политического бомонда не становится меньше: пропасть почти рядом (не за горами), давайте дружными рядами – шагам марш на встречу «со счастьем»!
Советско-коммунистический тупик был предопределён. И крах – предопределён.
И никакие самые изощрённые инъекции не спасли бы инфицированный синдромом саморазрушения организм.
А ещё по телефону Борька – «натуральный прозелит»[14] – пожаловался:
– Ты представить себе не можешь, как я (здесь и сейчас) завидую тем, у кого с манией величия всё в порядке: ну, ты понял, о чём я! Предложили бы мне заразиться этой сладкой заразой – я бы отдал любые деньги. И зажили бы мы с Люськой (богоизбранные из позолоченного миллиарда) на Святой Земле, как в раю! – рассмеялся он в трубку.
И смех этот был какой-то фальшивый. Лживый насквозь. Это был смех не человека.
Я представил Борьку в роскошном супермаркете, где продают такие вот суперактуальные продукты, как те, о которых он сказал, в ярких таких, соблазнительных упаковочках. И он выбирает среди изобилия видов и подвидов этих полезностей для счастья и здоровья, какой более ему сейчас жизненно необходим.
И Бела, и я – как заворожённые! – смотрели на телефонный аппарат с лежащей на нём сверху трубкой.
Мы находились под впечатлением Борькиного звонка.
Если бы лет эдак десять назад – в 1987 году – матерщиннику Левитину нашептали, куда его (и не только его) может занести судьба-злодейка, он бы точно не удержался – съездил бы тому предсказателю в ухо.
Итак, вопрос остаётся открытым: где хорошо, там и Отечество?
Или: ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ?
Жене (чтобы абстрагироваться от вечных проблем и вечных, не имеющих ответов вопросов) я сказал о другом:
– В папирусе Присса, датируемом примерно 3 тыс. лет до н. э., я прочитал: «К несчастью, мiр сейчас не таков, каким был раньше… каждый хочет написать книгу. Конец света уже близок…»
– Ты хочешь написать книгу? – спросила Бела с тревогой в голосе.
– Ни в коем случае, – ответил я. – Время Книг (с большой буквы) уходит в Прошлое. Писать книги надо было в Алма-Ате, когда я мог опубликовать всё что угодно.
– Хоть чёрта лысого? – рассмеялась она.
– Хоть чёрта лысого… Про то, что никто ничего не читает, но каждый хочет написать книгу, у меня есть причудливая байка. Как снег на голову. Рассказать?
– «Снег на голову» – это всегда «приятно», – сказала Бела.
– Первое время на ТВ, если мне были нужны первоисточники, я отправлял Любу, мою ассистентку, в Пушкинскую библиотеку (откуда она приносила позарез необходимые для работы десяток книжек). Потом она сказала: «Нафига ходить в Пушкинку, когда у нас есть своя библиотека?» – «Где?» – удивился я. – «В левом крыле, на первом этаже, там, где находятся киномонтажные», – ответила она. «Отлично», – думаю я и отправляюсь посмотреть, что это за библиотека такая «у нас» на ТВ. И на самом деле, в левом крыле на первом этаже нахожу дверь со скромной вывеской: «Библиотека. Работает с 9:00 до 18:00». Дёргаю за ручку двери – или она на замке, или я недостаточно приложил сил, чтобы открыть её. Дёргаю (с дикой яростью) вторично – и вырываю с корнем ручку, не «без шума и пыли». Из соседней комнаты выбегает девушка-киномонтажёр (которая хорошо знает меня и которую отлично знаю я) и, оценив ситуацию, улыбается:
– Библиотекарша бывает в 9:00, когда снимает верхнюю одежду, и в 18:00, когда одевается, чтобы идти домой.
– Здравствуйте, я – ваша тётя! – говорю я. – Интересное кино!
– Никакого «кино» нет. Тебе надо в библиотеку? Дуй в буфет. Там найдёшь рыженькую такую, с веснушками, бальзаковского возраста, очень даже ничего себе. Можешь флиртануть по пути. Особые приметы: сегодня она в платье с таким декольте (мужикам нравится), которое не скрывает кружевные обрамления чёрного бюстгальтера. Короче, ты её увидишь. Её рабочий день – это точить лясы в буфете: мне бы так впахивать «в поте лица»!
В буфете я легко нахожу рыженькую (по кружевам, которые мужикам нравятся).
– Какой мне смысл торчать в библиотеке, когда никто за книгами не приходит? – спрашивает она. – Газеты я подшиваю. Картотека в порядке. Изредка (могу поклясться на Библии) берут материалы партсъездов и пленумов. Но очень-очень редко.
Мы вместе отправляемся в её книжные владения. На мой взгляд, там томов тысяч пятнадцать, не меньше.
– Девятнадцать тысяч, – поправляет она меня.
Я роюсь в картотеке. Обнаруживаю там немало достойного внимания. (Например, «Катехизис еврея в СССР», изданный для служебного пользования.)
Через какое-то время (не в кипиш) мы с рыженькой стали друзьями, без служебных романов.
Так я стал единственным читателем библиотеки нашего ТВ.
– Роскошно! Нет слов! – сказала Бела. – Как соль на рану. Про «без служебных романов» напоминает липовые бредни.
Алма-Ата и всё связанное с ней представлялось теперь, в 1997 году, не иначе, как из другой жизни.
И дымящиеся почти на каждом углу мангалы, и аппетитные запахи жареной баранины на тлеющих саксаульных углях. И сам шашлык на алюминиевых шампурках стоимостью в 25 копеек за штуку (к мясу обязательно подавались хлеб и лук, нарезанный большими кольцами, уксус, соль, перец). И заснеженные вершины Тянь-Шаня, которые можно было наблюдать из окна и зимой, и летом. И моя сумасшедшая работа, от которой не было покоя ни днём, ни ночью. И наша с Белой квартира, превращённая, по словам жены, «в проходной двор», и неизменное место для ночных посиделок, когда вино лилось рекой и разговорам не было конца. И мой вечный дефицит времени.
Всё это было из другой жизни. Из другой и далёкой.
– У тебя на всё хватает времени, – возмущалась тогда жена, – на всё, кроме семьи. Ты даже нашёл время, чтобы испоганить нашу входную дверь. Не без помощи, конечно, твоих «калек» – собутыльников.
В той, другой жизни Бела всегда старательно выговаривала вместо слова «коллега» слово «калека». Для неё два эти разных слова стали иметь одну смысловую нагрузку.
Да, Эпопея с входной дверью – это что-то!
Идея «реставрации» входной двери нашей квартиры стала результатом коллективного творчества (Борьки Левитина, Кости Куратова, Генки Морева и других наших «калек»).
Сначала кто-то (не припомню кто) принёс холст с копией картины Шишкина «У калитки»: на первом плане – разумеется, калитка, а за калиткой – дремучий лес, как символ опасности и тревоги. Сюжет, короче говоря, известный.
Копию картины мы укрепили в середине нашей входной двери, со стороны квартиры. Боря, приняв в тот день (насколько я помню) лишний стакан портвейна, сформулировал концептуальную особенность такого решения следующим образом:
– Если город считать лесом, то за дверью нас, то есть нашу «искалеченную» женой Макса компанию, подстерегают непредвиденные страшные Страшилки, называемые жизнью.
Зачин получился интригующим.
Левитин продолжал:
– Так вот, там, значит, за дверью – «лес», здесь – мы. И мы не можем обойтись без вылазок туда, за дверь: это – охота! это – добыча! это – пища! это – азарт! это, в конце концов, одно из условий нашего существования. Но только лишь возвращаясь из «леса» назад, за «калитку», мы можем чувствовать себя в безопасности!
Даже Аякс, наш буль (флегматичный участник наших посиделок), застыл, внимая левитинскому откровению: массивную морду с горбинкой на носу поднял вверх, уши – торчком.
– Вот-вот! – заметила Бела. – Собака, и та – в состоянии аффекта!
– В состоянии эйфории! – поправил её Борька. – А что? Аякс в наших рядах!
– А Макс? – уже откровенно издевалась жена, имея в виду нашего кота.
– И Макс в наших рядах! – подтвердил Левитин. – А что?
– А ничего, – ответила холодно она.
Прошёл день, прошла неделя, прошёл месяц, и копия картины Шишкина словно вросла в дверь. Будто была там всегда.
Однако этим дело не закончилось.
Вокруг картины стал образовываться коллаж из цветных фото гламурных фотомоделей, вырезанных из дорогих глянцевых журналов; наклеек-вкладышей из жевательных резинок; в общем, из всего, что попадалось нам под руку. Таким образом, каждый из «калек» стремился внести в рождающийся на глазах метафорический коллаж свою лепту, чтобы наиболее точно (с его субъективной точки зрения) обозначить признаки мiра той системы ценностей, находящихся по ту сторону двери-калитки.
Через самое короткое время на двери, снизу доверху, не осталось ни одного свободного сантиметра. От такого информационно-насыщенного обрамления копия «У калитки» только выигрывала. Она (вдруг!) наполнилась таким глубинным смыслом, что сам Шишкин пришёл бы в растерянность.
– Ну вот, я же говорил: там – «лес», здесь – мы! – подвел итог Левитин.
– Ну да, – согласилась Бела, – с дверью-калиткой не какой-нибудь, а именно нашей.
Борька парировал:
– Двери дверям рознь!
(Нашей двери, значит, повезло больше, чем другим?)
Жена не стала спорить.
Когда мы оставались одни, она жаловалась:
– Палкой их, «калек» твоих, не выгонишь из дома. Что? У нас мёдом намазано? Или квартира резиновая? Или холодильник из коммунистического завтра?
Её не столько злило, сколько приводило в бешенство, когда в полночь (ладно, я – сова, ночной человек, жена – совсем не ночной!) раздавался телефонный звонок и голос из трубки вещал:
– Гостей принимаете? Минут через десять будем на месте!
Конечно, собирались не всегда обязательно у нас. Ни Куратов, ни Левитин и никто другой не прочь были принять гостей у себя. И они их принимали. Однако чаще собирались (почему-то) у нас.
Жена никогда открыто и вида не подавала, что не в восторге от постоянных ночных визитёров. Но, как правило, в самый разгар наших посиделок уходила спать. Уходила по-английски.
Бывало, мы засиживались чуть ли не до утра. Оставляли для сна часа три-четыре – хватало ведь! Засиживались, хотя следующий день у всех был расписан по минутам.
Ночь давала возможность временно отключиться от всего, что было в дневной жизни, и приносила с собой особенное ощущение комфорта. Поэтому, может быть, у ночного времени был иной, более неспешный и глубокий отсчёт времени.
Бывало, приходилось кого-нибудь размещать на отдых до утра. И не обходилось без курьёзов.
Как-то пришлось оставить на кухонном диванчике Женю Лубышева. И вот в тишине ночи (с какой это радости?) он запел. Запел громко, зычно, с чувством: «Ох, мороз, мороз! Не морозь меня…»
Утром, за завтраком, спросили:
– Пел? Сознавайся!
– Я? – растерялся он, не последний из партчиновников в ЦК республики. – Да быть такого не может: не надо на меня наговаривать!
Не сознался. Хотя в свидетели можно было призвать жильцов соседних квартир. Те бы охотно рассказали о концерте в ночи. Значит, заспал. Или вообще голосил во сне, не помня того сам. Больше Евгения Евгеньевича и насильно нельзя было оставить до утра, в каком бы он «уставшем» состоянии ни находился: такси к подъезду и домой, только домой.
Казусов в те достопамятные времена хватало. Казусов милых, безобидных, трогательных. Взять хотя бы нашу столовую посуду: пару чашек из кофейного сервиза (того, что подарили нам на свадьбу) разбил г-н Главацкий, а вот добрую половину хрусталя ручной работы (из любимого Белой набора бокалов) приговорил г-н Чемелюк, а вот (необычной формы) супница из столового сервиза, который нам обошёлся в кругленькую сумму, на счету г-на Богомолова, которого мы, глупо шуткуя, называли Богомольцевым.
После очередного «раз-боя» жена «смиренно» замечала:
– Ну всё! С завтрашнего дня у нас на столе будут алюминиевые ложки, тарелки и кружки: как в тюряге!
И она была права. Частые гости, кроме всех прочих приятностей, давали нам бесконечные поводы для визитов в магазины.
Нынче это зовётся шопингом!
«Смешной» случай с Лубышевым.
Сижу я у себя в редакции. Вместо того, чтобы заниматься делом, через «не могу» строчу ответы (по существу) на письма трудящихся, пришедшие после моих эфиров. На полу, рядом с моим стулом, стоит полмешка таких посланий в конвертах, с канцелярскими пометками: входящий номер – такой-то, дата поступления – такая-то.
Мешок этот стандартный, почтовый, из особой прочной бумаги, полметра в высоту. Ведь была же такая «страсть» у советского человека – письма писать в газеты, журналы, на ТВ, в исполкомы, в обкомы, в ЦК.
Не отвечать (максимальный срок – месяц) было нельзя – должностные инструкции обязывали.
Звонит Женя. Говорит, чтобы я срочно забежал к нему на десять минут: завтра будет поздно. Есть материал – застрелиться веником!
Я отнекиваюсь: не сейчас, не до сенсаций (сыт ими по горло), дел невпроворот. Он настаивает. Ладно, от ТВ до ЦК пёхом идти пару минут, заодно проветрюсь: почему бы не покалякать ради отдыха?
У Лубышева на столе лежит карта: и ради этого мне надо было «срочно» бросить все дела?
– «Ради этого»! – настаивает он.
Рассматриваю карту. Все надписи иероглифами. По-китайски. И что?
– Смотри внимательнее! – выходит он из себя.
Я начинаю «въезжать в тему». На карте красным цветом обозначена территория Поднебесной: сам Китай, Монголия, наш Дальний Восток, Сибирь (до Уральских гор), Казахстан.
Выясняется, что эта карта – не липа. Из надёжных источников, под грифом понятно каким.
Китайцы планируют вдолгую, на столетия вперёд. Действительно, застрелиться веником!
– Публикуем? – предлагаю я. – Шуму будет выше крыши. Кто с радостью возьмёт это – есть варианты. Это будет не Алма-Ата.
– Москва? Чтобы пошумнее вышло?
– Гонорар поделим по-бандитски: пятьдесят на пятьдесят. По рукам?
Женя смеётся:
– Сегодня опубликуешь? Отлично! Завтра без работы останусь я. А послезавтра – ты.
Мы ещё немного покуражились на этот счёт и разошлись с миром.
Преуморительный ералаш: в смысле – путаница, когда всё шиворот-навыворот?
Кто только не перебывал у нас в гостях.
– Если всех собрать вместе, – подтрунивал над Белой Левитин, – всякой твари будет по паре.
– Это просто страшно представить! – язвительно соглашалась она.
Увы, наша тёплая компания не ограничивалась «скучной» телевизионно-журналистской братией. В ней (невероятным для жены образом) оказывались и кочегары, и безработные художники, и кого только не было.
Что тогда объединяло нас? Кроме, разумеется, общего застолья?
Как-то, уже в Минске, было далеко за полночь. Я сидел за письменным столом, заканчивая что-то срочное.
Жена, одетая в длинную шёлковую ночнушку, подкралась бесшумно сзади, обняла за плечи, шепнула на ухо (со словечками на манер Борьки):
– Хоть бы одна сволочь позвонила! Помнишь, как раньше?
Да, я помнил. Я хорошо это помнил.
Телефонный аппарат (который непредсказуемо трезвонил в любое время суток в Алма-Ате!) стоял здесь же, среди моих бумаг, на столе. Он молчал.
В Алма-Ате у нас был телефон-трепальник (от слова «трепаться»). В Минске у нас был телефон-молчальник (от поговорки «долго молчали, да звонко заговорили»).
Разные телефоны нужны мiру. (Как и разные люди.)
Бела лютой ненавистью ненавидела (в той, другой жизни) не только наши посиделки, но и мою работу: ни выходных, ни проходных, ни праздников.
А если всё это дополнить командировками и непрерывными телефонными звонками незнакомых жене людей (часто – с женскими голосами), то получалась картина маслом: какой-то жуткий («не имеющий аналогов») кошмар! Кошмар и днём, и ночью.
То ли было дело, когда я работал в газете! Тихо. Спокойно. Рабочий день тоже был ненормируемым, но не до такой же степени, как на ТВ!