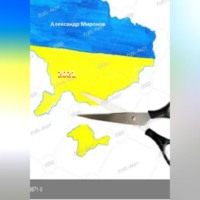Полная версия
Русская удаль
Шиволовский, войдя в гараж, почувствовал, как пол проваливается сквозь землю, и он за ним следом. Даже на какое-то время, показалось, – ушёл в тартарары.
Перед ним стояли "Жигули", но не те, которые при определённых обстоятельствах превращаются в ресторан, спальню и секс-салун. Не те, которые он с таким трудом добивался, ждал и уже заочно любил, как вторую жену. "Жигули", которые гладил во сне по желобку, а потом – наяву. Любовался и не мог насмотреться. Без которых уже жизни не представлял… И которые верой и правдой начали служить своему хозяину. И теперь, глянув на машину, на свою красавицу, Валерий Павлович, стоя на коленях и качаясь из стороны в сторону, рыдал.
Перед ним стояла машина, напоминающая огромную консервную банку, которую распечатывали, за неимением штопора, топором. Что рубилось – было порублено, что разбивалось – превратилось вдребезги, как снаружи, так и внутри. И вообще, груда утиля и металлома. Перед чем невольно хочется снять шляпу и вместе с головой. Орудие вандализма безмятежно валялось тут же, на полу.
Когда шок прошёл от второго представления, Шиволовский почувствовал, как нещадно жжёт лицо, по нему катились солёные слезы, возможно, с горючей смесью. Отчего Валерий Павлович вновь завыл речитативом:
– У-у-у!.. Да разве же так можно?.. Вот и оставь человека погостить… Не могла двух суток тут перекантоваться… Да я б тебе весь простой компенсировал, и праздничные оплатил… Да я б тебя… Да чтоб у тебя ноги колесом свело, кошка дра-ана-а-яяя!.. У-у-у!!.
Стенает Шиволовский голенастую бестию, сулит ей все земные и загробные страсти и сам от отчаяния немеет. Сам пострадал – трагедия. Этот стыд и срам как-нибудь пережил бы. А вот как быть с машиной? Ведь столько лет на неё стоял в очереди. Старался, работал в будни, в выходные и в праздники. Не раз на поклоне был перед Генеральным. И всякий раз слышал в ответ:
– Работай, Валерка, работай. Твоё время ещё не подошло. Ещё не заработал.
И его голос он как будто вновь слышал сейчас. Только слова другие.
– Вот и дай придурку стеклянную игрушку. Хо-хо!.. Раздолбай ты, Шиволовский, раздолбай.
Валерия Павловича даже объяснения с женой так не пугали, уж с ней он как-нибудь, придумает что-нибудь. А вот Генеральный… – это ж царь и бог! Это ж чёрт и леший! Это ж акула и электрический скат! – и всё в одном флаконе!
Шиволовского бросило в жар, как от огромного горячего горчичника, и он полез в подвал гаража в прохладу и за барсучьим жиром. Раны надо было замазывать, саднило лицо нещадно.
Подвал Валерий Павлович оборудовал удобно. По его периметру на стеллажах, на металлических угольниках, укрепил деревянные полки. И на них составлял соления и варения в стеклянных банках и баночках, разного размера. Многие из них были с наклейками, и каждая полка под определённый вид консервантов.
Сейчас он спускался в подвал с особой поспешностью, на которую понуждала саднящая боль на физиономии, которую и лицом теперь нельзя было назвать. Казалось, там, в подвале, была вся амбулатория, которая спасёт его от физических и психических страданий. Перед тем, как спускаться в подвал, он включил свет в него, и теперь с азартом стукнул ладонью в дверь. Дверь распахнулась. Но лучше бы она на тот момент была забаррикадирована изнутри.
Шиволовский, переступив порог, стал вновь опускаться на колени. В его сознании померк электрический свет.
– Убила-а… – только и могли вымолвить его уста.
Всё, что стояло когда-то на стеллажах: соленья и варенья, и пустые банки, – теперь валялось на полу в песке в разобранном виде, в виде мелких осколков и дребезг, вперемежку с содержимым банок и баночек. И, естественно, барсучий жир в малиновом варенье…
– Но машина-то причём?!. – воскликнул Генеральный, когда Валерий Павлович почти закончил свой рассказ. – Нет, ты её найди, Валерка. Найди. Надери ей это самое. Банки, посуду бей, а машину не трошь. Это ж ма-ши-на! Вот, мерзавка! Но ты её хоть, это самое… Кхе-кхе…
– Да было… Правда, выпившим был, уснул быстро.
– Вот это плохо. На охоту ходить, собак кормить.
– Да, теперь-то ясно, а тогда – перебрал немного…
– Ну, ничего, ещё молодой, исправишься.
– Постараюсь. Только, кажется, она, эта стерва, не наша, не местная. Не видел я её здесь раньше. Да и не на чём искать её. Нет машины.
Директор задумчиво попыхтел упругими губами, потом, игриво посмотрев на Шиволовского, сказал:
– Ладно, Валерка, не плачь. Найдём тебе машину. Подумаем. Может, что-нибудь из директорского фонда выкроем. Деньги найдёшь?
– Родион Саныч! – воскликнул Валерка, едва не подскочив со стула. – Да я в лепёшку расшибусь! Да я… – и почувствовал, как уголки глаз защипало, того гляди, слеза выкатится.
– Ну, на счёт лепёшки, не горячись. Ты мне даже такой, поцарапанный, нужен. Ты мне ещё послужишь.
– Послужу…
– Ну, вот и договорились. А теперь иди. И не будь впредь таким раздолбаем.
– Родион Саныч… Да я в жизнь теперь такого не допущу! Чтоб я ещё раз с такой связался…
– Иди, иди. Знаю я вас, – и директор отмахнулся от посетителя.
Вот тут бы Шиволовскому и закончить аудиенцию. Но Валерий Павлович впал в благодарственную эйфорию, и потерял контроль над ситуацией.
– Родион Саныч… Отец родной… Да я… – при этом его полосатая физиономия лоснилась, и чем-то напоминала морду не то шакала, не то гиены.
– Нет, ты пойдёшь отсюда, или тебя ещё раз поцарапать? Сейчас организую!
Валерка выскочил от директора, как контуженный.
Опомнился уже на улице. Тут только Валерий Павлович начал собираться с мыслями, вспоминая беседу с Генеральным. Что-то в их разговоре, кажется, промелькнуло объединяющее, и он даже почувствовал, как будто бы сочувствие в его голосе. И это зарождало слабую надежду на то, что тот выполнит своё обещание, найдёт ему машину. Ну, хотя бы из дурости! – которой директор так гордится.
И-и-ээ-эххх! ‒ боку-куку…
Самогонокурение.
Проснувшись, Ангелинка встревожено осмотрелась. И в недоумении уставилась на свою пижаму, на свои руки. Тут же сбросила одеяло и побежала к большому зеркалу, что прикреплено к её платяному шкафу с обратной стороны дверцы. Открыла поспешно дверцу и увидела своё отражение. Покрутилась перед ним туда-сюда и облегчённо вздохнула.
– Фу-у… Это всего лишь сон!
Перед ней стояла подвижная улыбающаяся девочка десяти лет.
Но у Ангелинки было такое чувство, даже ощущение, как будто бы она сегодня пережила чью-то жизнь, и притом не радостную, сумбурную. А главное, она во сне представлялась пожилой женщиной, даже старушкой, униженной и смятенной. И образ тот как будто бы до сих пор живёт в ней, довлеет и стесняет её. Она не в состоянии от него избавиться – так явственно представилась ночная картинка, так жизненно.
Нет, сама картина сна была несколько забавной и даже трогательной, и детали, воспроизведённые во сне, тоже казались интересными, поскольку о таком она никогда и нигде не слышала. Ну, разве в разговоре между дедом и бабушкой иногда. Да и то не до таких подробностей, как во сне, и не до бытовых мелочей. Да и дед с бабушкой вряд ли могли быть в те времена участниками подобных событий, поскольку они всегда были городскими жителями, если она не ошибается. Но даже если и жили в деревне, то уж больно молоды они были для тех сказочных времён. А тут… две старухи и старик.
Второй старушкой была Настёнка, подружка из соседнего дома. Внешне она даже чем-то походит на старушку. Забавная, и всегда весёлая, ‒ а во сне серьёзная и даже строгая к своему старику Михею.
На кого походил дед Михей, Ангелинка не могла припомнить, да и виделась с ним во сне, каких-нибудь пять-десять минут. Запомнила лишь, что был он в резиновых сапогах, в серых штанах, на колене четырёхугольная заплата. Старик был хмур, задумчив и безучастен. Но сквозь серые брови поблёскивали смешливые глазки, и он изредка пощипывал прокуренные усы. На старом военном кителе, по случаю прихода к властям, висели медали: "За отвагу" и две юбилейные.
А пришли они именно в сельский совет, как поняла девочка из дальнейшего сна, хотя чёткого представления об этом учреждении не уловила.
***
…Они втроём сидят в коридоре перед залом заседания сельсовета на стульях.
Старушки в поношенных плюшевых курточках, в длинных юбках, на ногах у одной вельветовые полуботинки, у другой – суконные ботики. Обе в выцветших старых платках, повязанных домиком.
Старухи, то есть Ангелина и Настёна, негромко о чём-то переговариваются. Делятся новостями, и как будто бы не особенно радостными.
Михей большой, сидит прямо, ладони скрестив на суковатой палке.
Скрипит дверь зала заседания, и на пороге появляется мужчина лет сорока.
– Фофонцева, заходи! – говорит он хрипловатым басом.
Фофонцева, то есть Ангелина, встаёт, одёргивает куртку, поправляет платок на голове и, бросив прощальный взгляд на собеседницу, семенящим шажком в ботиках проходит в зал. Мужчина прикрывает за ней дверь.
За большим столом покрытым зелёным сукном сидит Председатель – молодой человек лет двадцати семи (Лёшка, с соседнего дома!), в костюме, при галстуке, в белой сорочке. Он строг, держится официально, перед ним бумаги и ручка.
Рядом с ним женщина (Валерка, с пятого этажа), и тоже строгая. Хотя эта строгость кажется напускной.
– Фофонцева Татьяна Яковлевна? – спрашивает Председатель.
– Нешто, Алёша, ты меня не признал? ‒ удивляется посетительница, приостановившись у порога. Худенькое, потемневшее от старости лицо её кривится в смущении.
– Хм, – произносит в замешательстве Алёша. – Давай, баба Таня, так договоримся. Мы сейчас с тобой, как на суде. Мы судим тебя за самогоноварение. Поэтому мы будем судьями, а ты подсудимой. Поняла?
Баба Таня согласно кивает, серые концы платка, как козлиная борода, мелко трясутся под подбородком.
– Вот и хорошо. А теперь подойди сюда, на середину, – председательствующий указывает ручкой перед столом.
Старуха повинуется.
К Алёше с правой стороны подсаживается мужчина (Прошка, с первого этажа соседнего подъезда), который приглашал самогонщицу в зал. Он одет легко, по-летнему, в светлую рубаху с расстёгнутым воротом. Держит себя степенно, важно. Тоже соблюдает строгость, соответствующую положению.
– Итак, начнём заседание, – говорит председательствующий.
Члены комиссии согласно кивают.
– Татьяна Яковлевна, вы, конечно, поняли, зачем мы вас вызвали?
– Дык, это… зачем?
Алёша удивлённо вскидывает голову.
– Ты что, баба Таня, не поняла? Я же сказал, что мы будем вас сейчас судить за самогоноварение. С самогонкой тебя, то есть вас, застукали? Застукали. Полтора литра изъяли? Изъяли.
Старуха согласно трясёт "бородой".
– Отняли, Алёша, отняли… Если бы вы знали, как её, заразу, гнать на кастрюльке, да без холодильничке. Наверное, вся деревня пьяная ходила.
Члены комиссии оживляются. Блондинка (Валера), сидевшая с левой стороны от председателя, записывает ответ "подсудимой".
– Ты… Вы…
Похоже, Алёша никак не может настроиться на официальный тон. Смущённо кохыкает в кулак и начинает по-простому:
– Ты, баба Таня, слыхала о законе по борьбе с самогоноварением и алкоголизмом? Слыхала, я тебя спрашиваю?
Молчание. Старушка тужится что-то припомнить или сформулировать ответ половчее, но не может. Руки ей мешают, она их прячет, то за спину, то сцепляет пальцы впереди себя. Наконец, они, поймав уголки платка по бородой, успокаиваются.
– Ты что, баба Таня, с Луны свалилась? Он уж второй год, как в силу вошёл, а ты будто бы и не знаешь. Знаешь, что есть такой закон?
– Верно, касатик, кажись, был. Про строгости слыхивали…
– Ну вот, закон знаешь, слыхивали, а почему нарушаешь?
– Чего?..
– Указ, говорю, почему нарушаешь?
Старуха переминается с ноги на ногу.
– Дэк это… нужда, Алёшенька.
– Какая ещё нужда? По нужде самогон гонишь?
– Эдак, эдак, – поспешно соглашается старушка. – Водка-то, эвон какая стала дорогущая. Где ж её напасёшься? А тут ещё этот, сухой закон…
– А ты что, гулянки часто устраиваешь?
Алёшенька обводит смеющимися глазами своих коллег. Те снисходительно улыбаются.
– Дык кажную весну и осень. Веселюсь, а то и плачу. Жисть-то вишь, какая развесёлая, – баба Таня кончиком платка смахивает слезу. – Ты, Алёша, разве сам не понимашь? Нужда, я говорю, будь она неладна… Кто ж без ентого дела, что делать будет мне? Э-э… – отмахнулась рукой.
– Ну, можно и за деньги.
– Конечно, можно. Почему нельзя? И за деньги можно. Так не хотят. Кто счас за деньги работает? Деньги мало кто берёт. Им, говорят, подавай счас жидкую валюту. Да оно маленько и подешевше с самогоночкой-то… Этот раз Проша вспахал огород, выпил баночку, а от денег отказался. Разве мне плохо?.. Спасибо тебе, Прохор Игнатыч! Хороший ты человек. И похаешь ладно.
Старушка кланяется мужчине, сидящему с правой стороны от председателя.
– Ты, бабка, того, этого… не сваливай тут на личности, – ворчит Прохор Игнатьевич, нахмурив густые выгоревшие на солнце белёсые брови.
– Дык я что, касатик, – забеспокоилась бабка. – Я ж не со злом. Я ж тебя хвалю. Ты сердобольный, Проша. И пьёшь мало, и денег не берёшь. Другие…
– Ты зачем сюда пришла, бабка? – повышает голос "касатик", краснея.
– Дык это… вызывали. За самогонку, поди…
Старушка пригнула испуганно голову и заводила уголком платка по лицу, казалось, ещё немного, и она заплачет.
– Вот и отвечай. Следующий раз будешь знать, кого угощать, ‒ ворчит Прохор.
– Дык это старый Михей, паразит, – всхлипнула она без слёз. – Пить пьёт, а как помочь чево попросишь, не могёт. Не дала ему похмелиться… Да и то человек не по злобе сболтнул. Во хмелю был. Он сам здесь, – кивает на двери. – Пришёл каяться. И старуха Настасея с ним. Ох, и шибко она его ругала. Ох, и ругала… Обещает, как накурят, так своей самогонкой вернут мне за туё, что у меня отняли…
Члены комиссии засмеялись. Старуха сконфуженно осеклась и подалась к столу.
– Тю! Че я трёкаю? Вы не слушайте меня, старую дуру… Вы уж это, – вытянутой рукой показала на двери, – им ниче не говорите. Ладно?
– Ладно, ладно, бабка. Прикуси язык, – буркнул Прохор.
Блондинка, наклонясь к председателю, что-то негромко ему сказала. Тот одобрительно кивнул.
– Татьяна Яковлевна, – обращается она к бабке. – Возьмите стул, присядьте.
– Вот спасибо, деточки, – обрадовано засуетилась старушка. Берёт стул у стены и ставит его на то место, где только что стояла. Садится, облегчённо вздохнув. – Ноги-т совсем, язви их, худы стали…
– Татьяна Яковлевна, вы о деле бы говорили. О том, о чём вас спрашивают. Лишнего не надо, – говорит женщина тоном учительницы младших классов.
Она выглядит привлекательной, аккуратненькой, с розовыми губками, располагает к себе. Благодаря её присутствию старушка чувствует себя несколько приободрёно. Женщина добавляет:
– И о Прохоре Игнатьевиче ничего говорить не надо. Мы его знаем. Он человек положительный.
– Этак, этак, – одобрительно кивает старуха. – Проша парень хороший, ничего не скажешь. Кабы все такими были, в совхозе жить легче было бы. Его только кликни, он завсегда. Доброй души человек и денег не берёт…
– Слушай бабка, перестань меня дёргать! – возмутился Проша, ёрзая на стуле. – О деле давай.
– А я чё? – стушевалась Татьяна Яковлевна и стала оправдываться. – И я о деле. Нешто я не понимаю?.. И самогоночку я чё, для плохих людей делаю? И чистая она у меня, без табака. Не для себя, а для дела. Когда нужда припрёт, чтоб способней было… Вон, в прошлый месяц, помнишь, Валерия Марковна, я к тебе приходила в правление? Насчёт боровка, подложить его надо было…
– Помню, Татьяна Яковлевна, – кивнула женщина в ответ в некотором смущении. – Но поймите меня. Не могла я тогда вам прислать ветеринара. Занят он был. Так вы уж не обессудьте.
– Да будет, будет, – отмахнулась старуха маленькой ручкой улыбчиво. – Бог с тобой. Я не в обиде. Я Костратыча и так потом сыскала. На ферме подкараулила. Тоже говорил, некогда. А когда сказала, что самогоночкой попотчую, пришёл, уважил. Во-от…
"Во-от" – произнесла ласково, с таким значением, словно всякое к себе участие воспринимает как божескую милость.
– Это, значит, вы Антона Калистратовича пьяным напоили?
– Бог с тобой, касатушка! Костратыч много не пьёт. Он только два стаканчика выпил, когда кастрировать пошёл. Да два после. И всего-то… А денег не взял. Да-а. А чтоб пьяным?.. Не-ет, что ты. Он не шатался. Он сам говорил, что ему некогда, всё на ферму торопился.
– Понятно, – раздумчиво говорит Валерия Марковна.
– Нет-нет, ты не сумлевайся, касатушка. Он мужик хороший. К нему только подход нужон. А без ентого дела, какой подход? Он, как Проша… – сказала и осеклась под горящим от негодования взглядом Прохора, казалось, ещё немного и он бабку обругает.
– Баба Таня, ты нам толком можешь объяснить, почему ты стала самогонщицей, ‒ спрашивает председатель, скрывая усмешку.
– Ну-у, это, почитай, у нас сызмальства, – улыбается баба Таня, оголив ряд мелких зубов. – Я, помню, ещё вот такусенькой была, своему деду её делать пособляла. Я ему, помню, щепу ношу, а он в кастрюльке бражку курить…
– Баба Таня, ты нам об истории самогоноварения не рассказывай. Мы и без твоей лекции кое-что смыслим в этом деле, ну и прочее… Ты конкретно, о себе. Почему ты взялась за самогонокурение? Ведь ты закон нарушила.
– Дык, Алёша, касатик, куда ж я без неё? Она мне и огород пашет и дрова возит. А не будь у меня её, хоть ложись да помирай… – всхлипывает. – Это когда я работала в совхозе, то совхоз мне мало-мальски помогал, жить можно было. А теперь всё, как на пенсию пошла, я – отрезанный ломоть. Это ладно ты в анженерах ходишь, своей бабке бесплатно помогаешь. А мне кто? Одна как перст осталась! – У старухи слезились глаза, голос задрожал. – Сама работать боле не могу. Пенсии 32 рубля 42 копеечки. Попробуй, поживи…
– Ладно, баба Таня, – останавливает Алёша старухины причитания, – нам всё ясно. – Смотрит на членов комиссии, те согласно кивают. – Ты выйди сейчас в коридор, посиди там. А мы посовещаемся. Иди.
Старушка со вздохами поднялась и, вытирая концами платка глаза, семенит к двери, постукивая резиновой подошвой суконных ботиков.
Через несколько минуты Прохор вновь приглашает самогонщицу в зал заседаний.
За столом стоят Алёша и Валерия Марковна. Председатель, держа перед собой лист бумаги, судейским голосом зачитывает решение:
– Заслушав дело о нарушении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР1 «О мерах по усилению борьбы против пьянства, алкоголизма и самогоноварения» товарищем Фофонцевой Т. Я., неработающая, пенсионерка, беспартийная, русская, полтора класса образования, комиссия по борьбе с пьянством и самогоноварением постановляет…
Старуха замирает. Глаза расширены, губы заметно подрагивают. На лице страх и ожидание.
– …За нарушение Указа гражданке Фофонцевой Т. Я. вынести общественный выговор. – Председатель кладёт на стол лист и добавляет, не снижая официальной тональности в голосе: – Данное решение, если вы, Татьяна Яковлевна, с ним не согласна, можете обжаловать в нашем сельском совете.
– Ой! – радостно всхлипывает руками старушка. – Да што ты, што ты! Я согласная. Дай тебе Бог здоровья. И тебе Валера. И тебе Проша…
Её тёмное лицо осветилось счастливой улыбкой, словно солнечный зайчик из окна упал на её лицо, и она, бедная, засуетилась вокруг стула, на котором до этого сидела, раскланиваясь на две стороны, то Алёше и Валерии Марковне, то Прохору, стоявшему за ней у двери.
– Вот спасибо-то!.. Вот спасибо-о!.. А меня-то как напугали… Мне ж сказали, чтоб я готовила двести рублёв. А я… А где б я их взяла?
– Татьяна Яковлевна, – останавливает радостные причитания осуждённую Валерия Марковна, постукивая казанками пальцев по столу. – Мы вас на первый случай решили пока предупредить, то есть объявить выговор.
– Вот хорошо-то…
– Но, – повысила она голос до строгости, – если вы ещё раз попадетесь, мы вас оштрафуем. Поняли?
– А как же ж, че тут не понять?.. Штраф худо. Штраф совсем плохо. А выговор ничо, выговор можно… Не-ет. Больше я Михею и на понюх не дам. Паразит, натерпелась сколя…
– Иди, баба Таня, иди, – потянул Прохор самогонщицу за курточку сзади.
– Ага, ага, пошла, – согласно трясёт та "бородой", подаваясь к двери.
Но, взявшись за дверную ручку, вдруг обернулась и, глядя на Алёшу ласково, робко спросила:
– А это, туё самогоночку мне вернуть нельзя? Нет?..
– Ты что, бабка?! – удивлённо вскликивает молодой человек и со стоном отмахивается:
– Тёть Таня, иди, иди ради Бога отсюда!
– Иду, – крестится старушка. – Иду. Это я так… Жалко, вот и спросила… Эх-хе. Опять пять рублёв тратить. Где дрожжи брать? Сахар куда-то подевался. Вот беда-то… – бормочет она, выходя из зала. – И што за жисть?..
***
…Неужто и мне такая старость ожидает? – возник первый вопрос у девочки.
Когда в комнату вошёл дедушка, и они поздоровались, Ангелина спросила его:
– Слушай, деда, а кто такая Татьяна Яковлевна Фофонцева?
Дед удивлённо вскинул на неё брови, чем-то они походили на брови Михея.
– Так это твоя двоюродная прабабушка.
– То есть моей прабабушки сестра родная?
– Да.
– А у нас есть её фотография?
– Должна быть. А что она тебя вдруг заинтересовала?
– Да сегодня её во сне видела.
– Да? Интересно. А точно её?
– Точно. Я в её роли всю ночь выступала на заседании антиалкогольной комиссии при сельском совете.
Дед ещё больше удивился.
– Вот как!
– Она в деревне жила?
– Да. Там и покоится.
– А что такое сельский совет?
– Ну-у, по-нынешнему – управа, мэрия.
– А, правда, что раньше были такие комиссии – антиалкогольные?
– Были. Каких только не было…
– И за самогоноварение судили?
– Судили.
– А как правильно – самогоноварение или самогонокурение?
– В старину называли винокурением. От слова – винокур, тот, кто вино курит, производит. Даже винокурни были.
– А потом стали варить, как варение, – засмеялась девочка. – И стало получаться – самогоноварение.
Дед тоже усмехнулся.
– Так за это курение и судили на тех комиссиях?
– Да, но недолго, лет пять. Нет, судили и раньше, но народным судом и ссылали туда, где Макар телят не пасёт. А при Горбачёве ввели антиалкогольные комиссии. Вроде как демократично, общественное осуждение, воздействующие на несознательные элементы.
– А потом?
– А потом власть переменилась, и все комиссии отменились.
– Ага, так вот, почему ты таким смелым стал, самогонку куришь и не боишься. Никаких комиссий и местной управы. Туда тебя надо, к бабушке Татьяне.
– За что? Я же ею, это… самогонкой, не спекулирую. Гоню только для себя. А первачок он нам, как медицинский спит. Где сейчас спирт? – днём с огнём не сыщешь. Когда бабушке на уколы годится, когда мне… – дед подмигнул, и в его взгляде, и в иронии, внучка уловила смешинку Михея.
– А ты не знаешь, кто такой Михей?
– Ты и его видела? – удивился дед. – Да как не знать, знаю. Когда бабка Настёна померла, так он с бабой Таней жить стал. Лет, наверно, пять прожили.
– Так выходит и он мне родня?
– Выходит…
Внучка рассмеялась, а дед заподкрякивал. И Ангелина добавила:
– Теперь я тоже знаю, как в старину самогонку курили…
– Мне расскажешь?
Чистая работа.
Поработали на совесть, за что хозяйка, из тех, из новых русских, пришла в восторг.
– Ребята, какие вы молодцы! – всплеснула руками, как актёрка на сцене. – Вот это я понимаю – чистая работа!
И, что самое неожиданное, тут же им выдала деньги по тысячи баксов на брата и, опять же столь неожиданно, пригласила на «уик-энд». Теперь у них так пьянки, застолья стали называться. Правда, пьянкой такое застолье, применительно к ним, не назовёшь, скорее товарищеский ужин, знак уважения, и потому вели себя сдержанно, с провинциальным достоинством.
А они, действительно, не городские, не столичные. Один, это он, Виктор Шошин, из-под Калуги; другой – из брянских; третий – вообще из-за тридевять земель, аж из-за трёх границ, из Молдовы. Москва, она теперь притягивает народ к себе за длинным рублём, как раньше Север. Только в столице северные льготы не идут и прописку не дают.
Хозяйка наняла их за три тысячи долларов и не обманула. Да ещё вот, на уик-энд пригласила, и даже на своей тачке привезла. Среди новых толстосумов тоже люди попадаются. На таких и поработать можно, такой и подлянку не станешь делать. А то до этого была одна сволочуга, до сих пор сто баксов не отдаёт.
Женщина собой недурна, ничего не скажешь. Может быть, чуть полновата. Так и у него Зоя не тоньше. Правда, эта покультурнее, поласковее, пообходительнее и не шипит. Зоя, как что не по ней, так язык показывает, а то и по шее отвесит. А у этой и взгляд, и голосок, и в движениях… Ну ясно дело, москвичка.