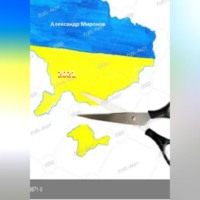Полная версия
Русская удаль
После вчерашнего вечера на проводах сына. С похмелья и от радости. Романс, музыка, ложились волнами под ноги.
День (можно сказать, ещё утро) выдался ясным, под стать его настроению. Думы Юрия Саныча были заняты сыном. Шурке, то бишь Александру, предстояло отбыть сегодня в Столицу, (как сам сын называл Москву) на учёбу в авиационный институт.
Вот выстрелил, молодец парень!
Сам Юрий Саныч в свои молодые годы "пролетел" с институтом. По конкурсу дважды не проходил, и почему-то именно он, а не те, кто хуже него сдавали экзамены. Как в каком-то заколдованном круге был. Не верил и теперь в затею сына, хотя тот и имел кое-какие пристрастия к конструированию, но способности его, однако, оценивал скромно, тем более они не были подкреплены нужными связями и средствами, что способствует повышению вступительного бала на экзаменах.
А сын рискнул. И выстрелил в самое яблочко! Всех блатных обставил.
То ли времена изменились, то ли он недооценивал парня. Тут было чему радоваться. И вдвойне, потому что Сашка поступил не в простой ВУЗ, и в будущем ему предстоит работать не каким-нибудь там прорабом на стройке, к чему он сам когда-то стремился, а будет – о-го-го! – самолёты строить. Тут есть отчего отцу порадоваться: быть может, в сыне его мечта воплотится. Трам-та-та-тайра…
А с другой стороны было немножко грустновато: Сашка едет куда-то, в этакую даль – покидает и надолго их, родителей. Или, как сейчас стало модным среди молодежи называть: предков. Что его там ждёт, в столице-матушке? – удачи, радости, разочарования. Чужой город, чужие люди, ни родных, ни близких. Хотя как знать, что тебя тут ждёт-поджидает сию минуту, где родственников полно и друзей немало, да и сам не лыком шит.
– Ну, какой я предок? – изумлялся Юрий Саныч. – В сорок-то с небольшим? Да я ещё парень – о-го-го! – хоть куда! Ах, эти карие глаза меня любили. Их позабыть никак нельзя. Они стоят передо мной… Да я ещё и сейчас могу любому молодому кое в чём…
Он не успел закончить хмельную мысль о своих возможностях, как её прервали.
– Мужчина! Мужчина!..
У подъезда пятиэтажного дома, который он проходил, его окликнула женщина, ну не так, как на пожаре, а скромненько. И словно бы за язык поймала на грешных мыслях.
Юрий Саныч даже слегка смутился, притормозив на здоровую ногу.
– Что вам? – спросил он.
Женщина привстала со скамьи, придерживая перед собой детскую коляску. Молодая, невысокого роста, волосы белые, видимо, крашеные, лицом смуглая, цыганистая, и глаза – карие!
– Извините, пожалуйста, – приблизившись, сказала женщина несколько пониженным голосом, – вы не смогли бы мне помочь? Оказать маленькую услугу?
– В чём же?
– Представьте себе, не могу попасть в квартиру, – она изящным движением руки показала на окно первого этажа с открытой форточкой. Её улыбка умиляла, и пара золотых фикс в белых рядах зубов ослепляли. И голос, слегка приглушенный, и взгляд… настраивал как будто бы на игру. А может, это так показалось из-за его праздничного настроения?..
– Кхе… И чем же я могу вам помочь? – вновь спросил Юрий Саныч, тоже понизив отчего-то голос, настраиваясь на волну интриги, и почему-то сразу решил, что молодая мамочка потеряла ключ от квартиры. И, видать, намучилась с ребёнком на улице…
Так и есть. Или почти так.
– Понимаете, пошла с дочкой на прогулку, а ключ дома оставила. Вот вернулись, теперь домой попасть не можем. Папочка наш куда-то свинтил, – при последних словах мамочка, подсюсюкивая, наклонилась к коляске, поправила лежащую на ней дорогую накидку, плед или шаль. И стала легонько покачивать. – А-а!.. А дочку пора кормить. Она ещё и обмочилась, пелёнки надо поменять.
Женщина вопрошающе-смущённый взгляд положила на Юрия Саныча.
Ах, эти глаза напротив!..
– И как же вы предлагаете попасть к вам в квартиру? Дверь взламывать? – Юрий Саныч проникался сочувствием к женщине и симпатией, и слегка заюморил.
– Зачем же так громко? Можно и через форточку, – и она вновь повторила жест ручкой в сторону окна. – Я бы и сама, да боюсь, ребёнок проснётся, ещё вывалится из коляски. Да и одета я… – она бегло окинула себя взглядом, за котором невольно проследовал взгляд и Юрия Саныча, и, когда их взгляды встретились… он почувствовал, как в нём зазвенел романс фанфарами:
"Ах! Очи страстные и прекрасные!.. Вижу пламя в вас я победное. Сожжено на нём сердце бедное!.."
Юрий Саныч без лишних слов протанцевал к окну, в котором была открыта форточка.
Слева от окна проходили две трубы, газовая и водосточная. По водосточной, наступив на нижний её держатель-скобу, можно было приподняться и дотянуться до газовой. А там – дело рук и молодецкой удали!
Юрий Саныч поплевал на ладони и, прежде чем обхватить водосточную трубу, обернулся. Женщина отошла вновь под акации к скамье, где сидела до его появления, словно спряталась от посторонних глаз или от солнца под кустом, и, сцепив руки под упругими буграми груди, следила за ним, бросая взгляды по сторонам.
Коляска стояла в тени.
Мужчина озорно подмигнул мамочке. На что та, несколько запоздало, сверкнула фиксами.
– Эх! Тряхнём стариной! – воскликнул он и обхватил трубу.
Действительно, до форточки Юрий Саныч добрался довольно-таки сноровисто, чем вызвал приглушённый восторг у женщины.
– Ничего себе, старина!.. – И это восклицание его подстегнуло.
"Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, в жертву отдал я озорным глазам!"
Юрий Саныч встал на подоконник и просунул голову в форточку.
Перед ним была большая комната-зала. В ней стоял тёмной полировки мебельный гарнитур, инкрустированный позолотой. В шкафах со стеклянными дверцами находились из дорогого стекла вазы, фужеры, рюмки, а в другом – дорогая фарфоровая посуда. На противоположной стороне от окна, от пола до потолка, стеллажи книг и книги все в хороших переплетах и, похоже, полные собрания сочинений. На вращающейся ножке – цветной телевизор, под ним, на полу, лежал широкий персидский ковёр. А на потолке висела большая хрустальная люстра…
Вот как теперь молодёжь стала жить! Посмотреть любо-дорого. Тут век прожил и во сне такого добра не видывал. Да-а, живут же люди…
У Юрия Саныча ещё более проявился интерес к женщине.
Он обернулся. Женщина посматривала по сторонам, прикусив уголок нижней губки. Но, уловив на себе его взгляд, приветливо поиграла пальчиками; дескать, я тут, я жду, я с вами…
Однако Юрию Санычу почему-то вдруг расхотелось лезть в окно. Одним разом. Его словно бы повязали чем-то невидимым по рукам и ногам, отчего он не мог переступить порог, вернее, окно квартиры. То ли его смутил богатый вид комнаты (отчасти теперь стала понятной и богатая накидка на детской коляске – красиво жить не запретишь, даже в мелочах), то ли пока взбирался на окно, приустал, то ли ещё отчего, – но расхотелось и всё тут. Не мог понять отчего. И сосредоточиться что-то мешало, обдумать свои действия. Может, карие глаза?..
Он замешкался в нерешительности. И, наверно, сошёл бы вниз, и, наверное, извинился бы перед женщиной: мол, так и так, дома сын ждёт, проводить надо, и, вообще, уже не мальчик по чужим окнам лазать…
Женщина как будто бы уловила изменения в его настроении.
– Ловко у вас получается, – подхихикнула она снизу, приложив пальцы ко рту, как бы приглушая смех. – Какой вы молодец! Ага, тряхнул, называется, стариной! Вы во всём такой ловкий?
Её фривольный подтекст толкнулся новой волной сил в Юрии Саныче, и в голове снова закружился романс: "Эх, вижу траур в вас по душе моей…"
И Юрий Саныч полез в форточку.
На широком подоконнике стояли в керамических горшочках комнатные цветы. Прямо перед окном находился квадратный полированный стол, на котором стояли высокая стеклянная ваза с тремя живыми гладиолусами и чёрная шкатулка-фортепьяно. Чтобы ненароком не столкнуть эти вещи, Юрий Саныч, перевалясь через окно, дотянулся до них правой рукой и отставил в сторону. Шкатулка издала приятную, в два такта, музыку, очень знакомую и мелодичную.
Юрий Саныч ужом пополз в форточку и оперся руками в стол, тот надсадно и громко заскрипел в тишине комнаты.
Юрий Саныч был в положении почти вертикальном, головой вниз. В мозг прилила тяжёлая волна крови, и она, казалось, вот-вот выдавит глаза из орбит. Трудно стало дышать. Однако, как не хорохорься, а возраст всё-таки сказывается… Тут ещё полуботинок, в результате активных действий ног за окном, свалился с короткой ноги. (Нога не только укорачивалась сама, но уменьшалась ступня, отчего в носок обуви приходилось подкладывать вату). Юрий Саныч чертыхнулся: надо же было ему свалиться! Хорошо, что носки не в дырках, не то б она там…
В голове крутнулись слова на ту же мелодию романса: "Носки рваные, носки дранные!.. Ка-ак мне стыдно за вас, окаянные!.."
Но он не успел досочинить импровизацию на тему: как там, за окном, отреагировала женщина на его пятки и носки.
Боковым зрением вдруг уловил, что как будто бы дверь соседней комнаты стала приоткрыться. Он повернул голову и с удивлением заметил, что она действительно отворяется под воздействием палки… А из комнаты с кровати на него смотрит седая лохматая голова. Лицо, если можно было его назвать лицом, скорее скелет черепа, обтянутый кожей, было белым, как мел, и в глазницах плавали белесые водянистые глаза с чёрными икринками посредине.
Вот это глазки!..
Вместо рта – глубокая дыра без зубов, где подрагивал серый лепесток языка. Дыра начала издавать вопли! Вопли были дребезжащие, сиплые, но резкие:
– Ка-ра-у-у-у!..
У Юрия Саныча от страха, как перед приведением, всё похолодело внутри. Руки подломились в локтях, и он лицом, грудью упал на стол. Ваза с цветами зашаталась, но каким-то чудом устояла на месте. Однако с подоконника, на который упала укороченная нога, на пол шлепнулся горшок с цветком и разбился. От сильной встряски на столе "ожила" шкатулка-фортепьяно, и по комнате поплыла чарующая музыка Чайковского: "танец маленьких лебедей".
Трам-па-па, па-па-па-па-па…
Грохот горшка, музыка, вопль в прохладной утренней тишине квартиры, едва не лишили Юрия Саныча чувств. Он упал со стола на пол и залепетал:
– Я!.. Я проходом, простите… Меня попросили… Вы не подумайте…
Он развернулся к подоконнику и стал зачем-то сгребать в кучу землю и черепки на полу и рассовывать их себе по карманам брюк.
– Там ваша дочь, попросила… У ней муж ушёл, шляется где-то, скотина… Вы не думайте, я хороший…
Однако его лепет никак не действовал на дыру в черепе, из неё, как из трубы, сифонило на одной ноте, продирая от ужаса до мозга костей.
– Кара-у-у-ул!.. Кара-у-у-ул!..
Юрий Саныч, ползая под столом на четвереньках, начал сам подвывать. Под руку попал цветок с пышным корневищем и, не зная, куда его девать, стал запихивать цветок себе за борт рубашки.
– Дедушка… бабушка… Вы не бойтесь… Я сам… Мне самому страшно! Это ваша дочка, внучка… сучка!
Сунув последнюю пригоршню земли в карман, он, припадая на левую босую ногу, пританцовывая под танец "маленьких лебедей", поспешил в прихожую.
В прихожей было сумрачно, однако, не включая свет, быстро нашёл замок ("английский", с предохранителем).
Распахнул дверь и с дикой радостью узника вдохнул в себя глоток свободы…
Юрий Саныч, взъерошенный, растерянный, выбежал на крыльцо подъезда, но ни справа, ни слева женщины с коляской у подъезда не было.
Что за чертовщина?!.
Выбежал на тротуар. Зачем-то заглянул за скамейку, за кусты акации, но кроме чириканья воробьев и бабочек там ничего не увидел и не услышал. Что за шуточки, отсохни вторая нога!..
Из окна из форточки всё ещё доносился дребезжащий звук: "У-у-у…"
– Она что, электрическая?!.
Юрий Саныч увидел под окном свой полуботинок и вспомнил, что разут. Подбежал к нему. Ватная подкладка валялась в стороне. Юрий Саныч всунул её в туфлю, обулся, слегка притопнув. И тут только почувствовал, как под рубашкой на животе переместился корень цветка. Брр! – его передёрнул нервный озноб.
Он выхватил цветок и запустил его в акацию. Какого чёрта! До него только теперь стал доходить весь смысл произошедшего с ним. И новый страх охватил Юрия Саныча. Забежав в подъезд, захлопнул открытую им дверь, и опрометью поспешил прочь.
– Ну, подруга! Вот купила, так купила! – чертыхался он. – Вот воры пошли нынче, а! Ну, умнющие твари!.. Ха! Сами они не могут, помощь им требуется! – и бежал без оглядки.
Всю дорогу до дому Юрий Саныч недоумевал:
– Это ж надо было влезть в чужую квартиру, а?.. Ха, по просьбе трудящихся не видимого фронта. Вот старый осёл! – мотал он головой.
Он вспомнил, как хорохорился перед воровкой, "чистил" перышки, а глаза протереть не мог…
И вдруг расхохотался. Страх, доведший его до безумия и та игра, или заигрывания перед женщиной, теперь выплеснули из него безудержный хохот со всхлипами.
Юрий Саныч остановился, дальше идти не мог. Привалился к берёзке при пешеходной дорожке.
И может быть от этого неожиданного смеха, разрядившего его жизнелюбивый характер, или оттого, что всё обошлось для него, в общем-то, благополучно, к нему вновь вернулась жизнь и прежнее настроение.
Он вспомнил о сыне. А, вспомнив, смеясь, погрозил, как бы в назидание, ему пальцем:
– Вот тебе, Шурка, и город родной… с очами карими. Мотай на ус, парень. Не будь таким простофилей там, в Москве, как твой предок в Ангарске. Ха-ха!..
Романсы позабылись. В голове у Юрия Саныча сменилась "пластинка", его теперь сопровождал "танец маленьких лебедей":
Трам-па-па, па-па-па-па-па…
И он хромал под него, "приплясывал", раскидывая по сторонам черепки и землю из карманов.
1989г.
Боку-куку.
Эта история произошла давненько, однако, урок её поучителен, и потому о нём хочется рассказать. Возможно, станет поучительным.
Весть о несчастии с Шиволовским облетела, если не всё производственное объединение и подшефный посёлок, то до Родиона Александровича, в народе – Родион Саныч, дошла едва ли не сразу, ну максимум через час. Разумеется, витала она по народу в разных вариантах, но, чтобы узнать истинное её состояние – бог и царь, чёрт и леший, акула и крокодил (то есть Генеральный директор в одном лице) – вызвал Шиволовского к себе. Любопытство разбирало его не меньше, чем, наверное, его секретаршу.
Валерий Павлович шёл в кабинет генерального директора, как на аркане, ноги не шли, его вела душа. Стыдно и больно было предстать перед секретаршей, в таком виде: в наклейках, в йоде и в зелёнке. Но деваться некуда, и он переступил порог управления комбината. Кто-то, оглядываясь на него, подхихикивал, кто-то сочувствие выражал, а кому – было наплевать на его вид и состояние. И им, последним, он был более всех благодарен.
Секретарша, со свойственной ей прямотой, встретила Шиволовского вопросом:
– И сколько же тебя кошек драло?
И он, со свойственной ему изворотливостью, ответил:
– Не успел сосчитать.
Примерно так же спросил и Генеральный, но добавил, глядя на подчинённого с иронией:
– Только не врать мне. Рассказывай всё, и по порядку. Как не горька правда, она мне приятней. На брехню у меня время нет. Если не соврёшь – помогу, чем смогу. Ты меня знаешь.
– Знаю, Родион Саныч.
– Ну, так давай, Валерка.
По душам… Чего-чего, а по душам Татарков поговорить любит. И посочувствовать может, да только ухо надо держать востро. Тут смотря, какой подберёшь к разговору ключик. Одно Шиволовский знал, Родион Саныч любит разговор с фривольной начинкой, и чем она занимательнее, тем аппетитнее. А тут, что придумывать специально? – всё, как по заказу. И винные пары, и интим, и праздничный угар, и мордобой с погромом.
Обычно директор, через минуту-другую в общении с посетителем, делал своё заключение, и тот, – хочет он того или нет, – выдворялся из кабинета. Прямо и беспардонно. А тут, в предвкушении чего-то занимательного, даже предложил:
– Давай, Валерка проходи, сюда садись, – и показал на приставной столик перед своим столом.
И Шиволовский внутренне расслабился: кажется, ему не быть осмеянным, изжёванным – акула и гиена, черт и леший – отдыхают. Дай Бог, чтобы пронесло. А лучше – принесло что-нибудь полезное от этой встречи.
Шиволовский Валерий Павлович, заместитель начальника цеха механического завода, входивший в структуру комбината, ещё не потухший пятидесятилетний мужчина, решил развеяться. Так сказать, тряхнуть стариной, сходить на рандеву и прочие…
В канун 1-го Мая, то есть во второй половине дня тридцатого апреля, Валерий Павлович со своими сослуживцами слегка выпили. (Выпивши, его заусило, – как без ошибки, уже в разговоре, догадался хозяин кабинета.) Все коллеги по домам, к семьям, а Валерий Павлович сел на новенькие "Жигули" шестой модели и покатил по злачным местам, а злачных мест в посёлке городского типа… одно, у общежития на Советской.
За свой полувековой возраст Валерий Павлович имел кое-какой опыт в амурных делах. И женщин видел насквозь: по взглядам, по жеманным улыбкам. И по ряду специфическим приметам, что познаются на практике.
Чем старше становится мужчина, тем обострённее у него тяга к прекрасному, к юному, к нежному. Что же касается Валерия Павловича, то у него эта склонность приобрела далеко не платоническое и созерцательное выражение. Он умел ценить эту красоту только в натуре и при интимных обстоятельствах, и потому голенастые бестии, обтянутые в джинсы или коротенькие юбочки, притягивали его, как магнит. Что называется: седина в голову, а бес в ребро.
Предпраздничный вояж на "Жигулях" увенчался успехом. У кафе напротив общежития, Валерию Павловичу улыбнулась золотой фиксой Венера. Голову её украшала серая кудель и была она в синих джинсах, что в целом пленяло воображение Ловеласа.
У себя в гараже Валерий Павлович имел привычку приберегать бутылку водки или вина, что, несомненно, делает честь любому мужчине.
"Монтана" лежали на спинке заднего сидения, а белотелая Венера со вкусом и удовольствием потягивала русскую горькую и сигареты "Мальборо", возлежа на откинутой спинке переднего пассажирского сидения.
Валерий Павлович откушавши вместе с мадам Венерой, а, может быть, с Евой прибережённую на данный случай бутылку водки, захмелел. То есть немножко всхрапнул.
Мадам Ева, проверив карманы кавалера, пришла в негодование. Карманы были пусты! Негодуя и злясь, она делает белой ручкой массаж на щеке уснувшего Адама.
Шиволовский проснулись.
Валерий Павлович пробудился, и не понял, отчего горит лицо. Губы Евы или Веры, припав к его ушку, певучи шептали:
– Милый, не спи. Мы же не для этого сюда приехали.
Действительно, чего он тут развалился? – спать надо дома с женой. И Валерий Павлович слегка протрезвел. Хотел было пригубить прямо из горлышка, но бутылка оказалась пустой.
Мадам Вера, а, может быть, Мариана, продолжала выражать законный протест.
– Милый Валерик, я так рада нашей встречи. Я счастлива. Мне никогда так не было хорошо. Но слишком ты скуп, – выговаривала она. – Выпить нет. Закусит нечем. Да и денег у тебя, наверное, тоже нет. А того, что ты мне дал… – она наморщила носик. – Мне хочется ещё чего-нибудь, чего-то такого этакого…
Валерия Павловича пронзило чувство вины перед прелестным созданием. И он, как истинный кавалер, принёс даме извинения.
– Ты прости, дружочек, – сказал он. – Получилось, действительно, как-то не красиво.
И вдруг его осенило.
– Ты, – говорит, – побудь немного одна тут, а я схожу домой. Возьму деньжат и по пути зайду в магазин, – и пощекотал щекотное местечко юной обольстительнице: – Утю-тю-тю!
Марианне ход его мыслей понравился, и она, смеясь, с легкой душой заторопила кавалера.
– Ах, Валерик, как мне неохота тебя отпускать. Ты такой… Но ты не долго, – говорит, – скоро вечер. У меня ещё кое-какие дела намечены…
– Я мигом, крошка. Я одним махом.
Одевшись, причесавшись и поцеловавшись, Валерий Павлович поспешил из гаража.
– Я тебя закрою, дорогуша, на замок, и ты сиди тут тихо. И никому не отвечай, я сам тебя открою. Утю-тю-тю…
Мадам Маша, может быть, Параша, послала ему воздушный поцелуй и помахала ручкой из машины. Улю-лю-лю…
Закрыв гараж на замок, Валерий Павлович взял курс к дому. Был он тяжёл, помят, но ещё в рассудке.
Кто празднику рад, тот накануне пьёт. А таких как Валерий Павлович, в посёлке, да и по всей России – считать и не пересчитать. И он, выйдя из гаражей и входя в жилой массив, услышал из окон домов весёлые песнопения, звуки гармошек, гитар и магнитофонов.
А тут ещё сзади, обнявшись, выплыли из гаражей три друга, и хором залихватски заорали:
Пора-пора-порадуемся на своём веку
Красавице и юбке, и даже каблучку,
Пока-пока-покачивая перьями на шляпах,
Судьбе не раз шепнём: "Мерси боку".
"Мерси боку"… "Мерси боку"!
Ха-ха! Ха-ха-ха…
И в три глотки заржали. Ха, мушкетёры…
И эта праздничная атмосфера ещё более настраивала Шиволовского на мажорный лад. К дому он подходил с этой же песней, которую мурлыкал себе под нос: "Мерси боку… Боку, куку…"
Дома Валерия Павловича ожидал приятная неожиданность.
Как только хозяин вошёл в квартиру, его обступила многочисленная толпа. Родня приехала на праздник, кто откуда. И Валерий Павлович, естественно, тоже им обрадовался.
Ну, как тут уйти, не чокнувшись с гостями?
Выпили раз – за радостную встречу. Выпили два – за здоровье хозяев. Выпили три, четыре, пять…
Утром Шиволовский едва проснулся. Поднять подняли, да, похоже, не разбудили. Но опохмелили. Новый квас да на старую закваску, – и второй день прошёл в том же хмельном тумане и веселье. Он снова был насыщен тостами и здравицами. То есть всем тем, на что принуждают винные пары. Фантазия здесь заурядна до непредсказуемости.
Но как бы праздники не были хороши и продолжительны, за ними наступают будни.
Утром третьего дня Валерий Павлович хоть и хворал с похмелья, однако, решил на работу ехать на машине. Жене хотелось угодить, что называется, прогнуться, – что-то она последнее время шипеть много стала. А может он, ненароком, дал повод? Словом, чувствовал за собой какой-то неясный грешок. И потому захотел прокатить жинку на новенькой машине, – и двух месяцев нет, как купил по заводской очереди.
В начале восьмого утра Шиволовский был у гаража, ключом ковырял замок и негромко мурлыкал:
– Судьбе не раз шепнём: "Мерси боку"… Боку, куку…
Валерий Павлович дёрнул на себя дверцу в воротах и…
В первый момент он не понял, что происходит. Да и с похмелья…. с душой почти без грешной и чистой, омытой и проспиртованной, ещё витающей где-то в розовых облаках праздничного застолья, откуда вряд ли спрыгнешь в одночасье на грешную землю, и что-то враз уразумеешь…
Лишь только Валерий Павлович потянул на себя створку в воротах, как вдруг из гаража вылетает кукушка, да такая громадная, лохматая и рычащая… и впивается когтями ему в лицо.
Естественно, Валерий Павлович сразу не смог переключиться, перейти из расслабленного состояния в атакующее, и потому не мог достойно отреагировать на нападение. От неожиданности он даже оторопел, и этим беззастенчиво воспользовалось страшное чудовище. Оно било по лицу, драло его когтями, и страшно материлось.
Но этот же моцион подействовал на Шиволовского и отрезвляюще. Вначале он попытался было поймать разъярённую мадам Куку, объясниться с ней, но всякий раз отскакивал от неё, как ужаленный.
Наконец, он вынужден был прижаться к воротам и принять круговую оборону, как боксёр на ринге. Но противник, видимо, насладившись поединком, и выплеснув всю свою энергию, накопившуюся за двое суток в узилище гаража, отстал от несчастного и бросился прочь.
Как только наступила тишина, и в ней послышались удаляющиеся шаги, Валерий Павлович отнял руки от лица – увидел, как от гаража быстро удалялись "Монтана", перекатываясь по округлым полушариям.
С Валерия Павловича напряжение спало. Он почувствовал, что побит, но как будто жив.
Однако любые побои оставляют раны, если не в душе, то на теле. И не успело чувство достоинства разлиться по ожившему организму и сознанию, расправить грудь и гордые плечи, как к лицу Валерия Павловича прилила страшная боль. Словно со щёк и носа содрали кожу не на один, а на десяток ремней для талий нежных созданий. И Валерий Павлович взвыл:
– Ой-ей-ёй!!. – лицо загорело нестерпимым пламенем.
Шиволовский выдернул из кармана платок и приложил его к лицу. Материал тут же принял окраску флага, под которым в пору было выступать в защиту прав потребителя.
– У-у-у! Чтоб у тебя… на глазу ячмень вскочил! Чтоб ты облысела! Чтоб… – тут вариант красноречия можно себе представить, ибо Шиволовский не ограничивал себя в речитативе.
Через какое-то время Валерий Павлович поспешил в гараж. Ему страстно захотелось увидеть себя в зеркало. Оценить горячие припарки?