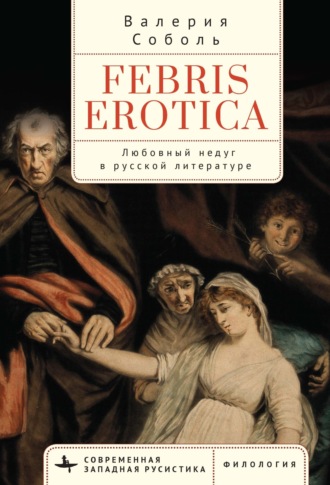
Полная версия
Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе
Некоторые медики локализовали лихорадку в другом органе любви – нервах – и предполагали, что развитие болезни провоцируется их особым расположением. И снова горячке оказывались подвержены люди с особой, хрупкой, нервной конституцией – чувствительные герои сентиментализма. Точная природа этого «расположения» по признанию врачей была еще неизвестна медицине, но несомненно, что «для лечения знобячей лихорадки должно стараться поправлять расстроенные нервы»137. Локализация лихорадки в нервах еще больше способствовала престижной духовной репутации этого состояния. По мнению некоторых врачей, лихорадку можно было вылечить психологическими методами, которые, как и в случае с любовью, предполагали забвение причины заболевания138.
Неспецифическая этиология лихорадки и ее предполагаемая психогенная природа очевидно импонировали воображению сентименталистов: любое нервное расстройство могло «безболезненно» привести к горячке, приобретая тем самым престижное, физически разрушительное проявление. В то же самое время очевидные аналогии, с одной стороны, между анатомией и симптоматикой лихорадки, с другой – между традиционными органами и признаками любви как болезни позволили писателям сохранить «память» о топосе в более современной и научной патологии страсти. Течение болезни с драматическими контрастами, моментами кризиса и непредсказуемым исходом открывало дополнительные возможности для повествования. Кроме того, изображение врачебного вмешательства с эмблематичным кровопусканием усиливало шокирующий эффект повествования, а также добавляло оттенок медицинского «реализма».139.
На другом уровне оказался чрезвычайно продуктивным метафорический потенциал главного проявления болезни – повышенной температуры, жара. Врачи отрицали важность этого симптома, считая, что он «далек от установления сущности лихорадочных явлений» [Фуко 2010: 218], однако писатели не могли устоять перед соблазном драматических возможностей, предоставляемых подобным свойством горячки. П. И. Шаликов в «Темной роще» завершает изображение лихорадки своего героя целым рядом контрастных метафор: «…через два дни хладные объятия смерти замораживают кипящую кровь его» [Русская сентиментальная повесть 1979: 200]. Драматический эффект этого описания обусловлен самой природой лихорадочного жара, его парадоксальной близостью к смерти и остановке всех жизненных функций. Кроме того, жар явно перекликался с поэтической метафорой любовного огня и предоставлял возможность для ее реализации. Влюбленного героя поглощало пламя любви не только образно, но и буквально.
Похоже, что логика этой метафоры определяет ход сюжета ранней повести Карамзина «Евгений и Юлия» (1789). Особенность этой повести заключается в отсутствии мотивировки болезни и смерти молодого героя: Евгений, который собирается сочетаться браком со своей возлюбленной Юлией, внезапно заболевает горячкой и умирает. Ничто не угрожало счастью влюбленных; Юлия, как и ее семья, с радостью приняла предложение Евгения, и скоропостижная болезнь героя вряд ли может быть квалифицирована как любовная болезнь. Рассказчик обосновывает трагическую развязку истории (и ее мораль) неисповедимыми путями Божьими: «Но судьбы всемогущего суть для нас непостижимая тайна» [там же: 92]. Исследователи пытались объяснить этот неожиданно мрачный финал влиянием масонской образности и идеологии140. Не отвергая эту интерпретацию, я предполагаю, что психофизиология сентиментализма, а также развивающаяся традиция горячки, спровоцированной любовью, по крайней мере частично объясняют такое развитие сюжета.
Рассказчик не называет состояние героя лихорадкой напрямую, но сообщает, что сначала оно проявляется как «сильный жар». Последующее развитие болезни также описывается исключительно языком огня: «пламя болезни», «огненные руки его и горящее лицо»; в бреду Евгений говорит «с жаром»141. Показательно, что первые признаки недомогания героя следуют сразу за кульминацией его счастья: «Будучи в беспрестанном восторге высочайшей радости, Евгений около вечера почувствовал в себе сильный жар» [там же: 93]. Таким образом, повествование намекает на причинно-следственную связь между его восторгом и последующей болезнью, как будто степень счастья оказывается слишком высокой для чувствительного героя142. Внутреннее пламя героя, интенсивность его счастья преобразуется в физический огонь болезни, пожирающей его молодое тело143. Такая буквализация может рассматриваться как риторический эквивалент сентименталистской тенденции стирания границ между физическим и духовным в поисках универсального принципа, управляющего всеми аспектами жизни человека. Так медико-литературная традиция любовной горячки становится еще одной точкой соприкосновения между философскими проблемами и дискурсивными практиками.
От сентименталистского синкретизма к романтическому дуализму
Однако к концу эпохи сентиментализма в России происходит фундаментальный риторический и эпистемологический сдвиг в подходе к восприятию и отображению интенсивных эмоций и чувствительности в целом. На разных уровнях можно четко проследить тенденцию к разделению физической и духовной сфер, которые ранее считались едиными. Переоценка научного понятия чувствительности становится одним из главных признаков этого нового подхода. Ставится под сомнение посреднический характер этой концепции, которая ранее обеспечивала желанную основу для выстраивания взаимодействия тела и души. Постепенно пропадает увлечение физиологией, вытесняемое растущим опасением, что тенденция укоренять все порывы души в теле может свести человека к чисто телесному, материальному существу.
Сам Галлер осознавал опасность его физиологической теории чувствительности для религиозного мировоззрения. Его определение чувствительности лишено той ясности и точности, которые присущи его лаконичной формуле раздражительности. Причиной такой неясности со стороны благочестивого кальвинистского ученого был именно метафизический подтекст концепции чувствительности, а точнее – ее предполагаемая связь с душой. Показательно, что Галлер формулирует понятие чувствительности в гораздо более конкретных терминах, стоит только ему исключить из рассмотрения метафизическую душу: «А у животных, у которых существование души не столь очевидно, я называю чувствительными те части, раздражение которых вызывает у животного признаки боли и беспокойства» (цит. по: [Figlio 1975: 186–187]). В экспериментальных целях Галлер опирался на очень ограниченное понимание чувствительности, сводимое в основном к проявлениям боли и дискомфорта. Сужение определения позволило ученому лишить чувствительности многие жизненно важные органы (например, сердце). Как отмечает Анна Вила, такое ограничительное использование понятия чувствительности в научной практике Галлера связано с его религиозно-философскими взглядами:
Поскольку, согласно определению Галлера, чувствительность – это первичная сила души, она не может по-настоящему существовать в теле. Поэтому, будучи жизненно важным свойством, она располагается на границе физиологического исследования [Vila 1998: 25].
Таким образом, чувствительность получила привилегированную связь с душой, в то время как раздражительность осталась чисто телесным свойством. Эта иерархия двух жизненно важных качеств обладала огромным символическим потенциалом и привела к широкому культурному резонансу, который выходил далеко за рамки первоначальных намерений Галлера. Материалистически или позитивистски настроенные писатели полагались на раздражительность, чтобы подчеркнуть физическую природу человека, в то время как идеалисты или анимисты предпочитали ссылаться на «духовное» свойство – чувствительность. Во времена Галлера Жюльен де Ламетри использовал понятие раздражительности, чтобы свести человека к чисто материалистическому, механическому существу144. Его скандальная работа «Человек-машина» (1747), провокационно посвященная Галлеру, распространяет понятие мышечной раздражительности на ментальные операции, представляя тем самым не только тело, но и всего человека как машину, движение которой порождается ей самой. В этой системе, естественно, не остается места для души, которая могла бы оказывать какое-либо влияние на физическую или психическую сферу человека145. Другой современник Галлера, Роберт Уитт, настаивавший на соразмерном участии души во всех телесных операциях, напротив, отдавал предпочтение чувствительности; однако, в отличие от Галлера, английский врач утверждал, что чувствительность широко распространена в теле, а не ограничивается определенными органами146. Уитт, известный своей склонностью к анимизму, что интересно, не только расширил понятие чувствительности, но и «одухотворил» раздражительность, которую считал не природным свойством мышц, а результатом действия души. Другими словами, предпочтение авторами раздражительности или чувствительности часто свидетельствует об их философской позиции в отношении человеческой природы – тенденция, которая оказалась жизнеспособной вплоть до XIX века. Как я показываю в главе 3, в России 1840-х годов, когда термин «чувствительность» уже давно был скомпрометирован и затаскан сентименталистами и их эпигонами, а позитивизм выходил на передний план русской культуры, Александр Герцен использовал лексику раздражительности для описания более материалистической модели физиологии эмоций.
В западном сентиментализме против исключительно физиологического понимания чувствительности как телесной реакции очень рано выступил Лоренс Стерн. В восьмом томе «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена» Стерн, как предполагают критики, вступает в тонкую полемику с подобными взглядами на природу человеческих чувств. Разрыв волдыря на пятой точке дяди Тоби приводит его к выводу, что он влюблен. Дядя Тоби, как замечает Тристрам, превратно истолковывает свою телесную рану как рану любви и полагает, что «рана его не накожная – а прошла в самое сердце» [Стерн 1968: 485]. Джеймс Роджерс интерпретирует этот эпизод как критику Стерном упрощенного подхода, согласно которому телесные функции служат проявлением сокровенных чувств души. Для Стерна, как утверждает Роджерс,
…волдырь, или тело, не является автоматическим, механическим сигналом любви или любого другого чувства. Для возникновения чувства, основанного на симпатии, например, любви или благосклонности, ощущения тела должны сочетаться с мыслительным процессом, работающим в социальном контексте [Rodgers 1986: 141].
В конце первого десятилетия XIX века русская сентименталистская пресса подняла эту проблему в ряде публикаций, оспаривавших физиологическую трактовку чувствительности. Среди них – анонимное эссе «О чувствительности и добродушии», переведенное с французского и опубликованное в «Цветнике» в 1809 году. Автор статьи выражает свое недовольство традиционным научным определением чувствительности как «способности чувствовать»: «…ибо сия способность простирается на все царство животных, и даже на царство растений. Человек и насекомые, пресмыкающиеся под ногами его, имеют способностью чувствовать»147. Столь широкое и всеохватное определение чувствительности, предложенное, по словам автора, «оракулами последнего века», подразумевает, что любому живому организму можно приписать это качество, тогда как, по его мнению, оно должно оставаться исключительной привилегией человека. В поисках более подходящего определения писатель прибегает к историческому аргументу:
Тщетно прибегал я к древним; они не имеют в языках своих такого слова, которое выражало бы совершенно чувствительность: это есть новая выдумка, и я даже примечаю, что сие слово принято нами с того только времени, как стали изъяснять чувствования ощущениями148.
Таким образом, автор подчеркивает новизну как термина («слово»), так и понятия («новая выдумка») и их связь с настоящим историческим моментом. Его акцент на явно современном характере понятия чувствительности позволяет найти более удовлетворительное объяснение, данное «мудрейшими из мудрецов нашего времени»:
Чувствительность, говорят они, есть расположение души, которое делает оную способною умиляться, трогаться. Это изъяснение мне кажется лучше других: оно, по крайней мере, не ставит человека наравне с произрастениями и не столько унижает его пред собственными его глазами149.
Эти два определения, которые автор представляет как исторически последовательные, на деле соответствуют двум различным, но сосуществующим значениям термина «чувствительность», зафиксированным в словарях того времени. «Dictionnaire de l’Académie Française» (1762) различает первичное, галлеровское определение чувствительности и моральную чувствительность, «sensibilité du Coeur»150. Это семантическое различие сохраняется и в «Словаре Академии Российской», который дает следующие толкования понятия «чувствительность»:
1. Движение души, возбужденное или возбуждаемое в оной чрез впечатление действующих на чувственные орудия внешних предметов. 2. Сострадательность; качество трогающегося человека несчастием другого. Чувствительность сердца [Словарь Академии Российской… 1806–1822, VI: 1318].
Что характерно, только второе, моральное определение напрямую упоминает человека и, значит, представляет чувствительность как исключительно человеческое качество. Таким образом, автор эссе из «Цветника» делает показательную попытку развести два синхронных понимания чувствительности и представить их как конфликтующие понятия, в которых «моральная чувствительность» хронологически заменяет «физическую». Новое определение, согласно его аргументации, также более точное: так утверждается превосходство морального понимания чувствительности. Следует подчеркнуть, что автор осведомлен о физиологической основе «современного» понятия чувствительности: он справедливо возводит его происхождение к сенсуализму, к теориям, которые «стали изъяснять чувствования ощущениями». Вместе с тем он предпочитает игнорировать этот факт и отдает предпочтение нефизическому и явно ненаучному определению чувствительности как определенной эмоциональной предрасположенности души. Очевидно, что такой выбор автора обусловлен его философской позицией, которая требует определения, подчеркивающего нематериальную природу феномена чувствительности и гарантирующего привилегированное духовное положение человека в живом мире.
Один из главных аргументов против «физического» определения чувствительности, приведенного французским писателем, заключается в том, что такое понимание включало бы в себя низшую форму органической жизни – растения. «По сему определению чувствительность есть и в растениях: не-тронь-меня, или жизненная травка (Mimosa sensitiva) может служить тому доказательством»151. Mimosa sensitiva, или «чувственница», как называет ее Радищев, часто появляется в научных и философских дискуссиях того времени как спорный случай растительной чувствительности: считалось, что растение увядает от малейшего прикосновения [Радищев 1938–1952, 2: 88]. Этот факт, очевидно, вызвал определенный дискомфорт по поводу осознания места человека в живом мире и побудил некоторых авторов пересмотреть определение чувствительности как не столько биологического, сколько духовно-нравственного свойства. Радищев находит любопытное решение этой дилеммы – он предлагает считать, что растения, занимающие более низкое положение на лестнице живых существ по сравнению с животными и человеком, обладают раздражительностью, а не чувствительностью: «…растение есть существо живое, а может быть – и чувствительное, … но чувственность сия есть другого рода, может быть, одна токмо раздражительность» [там же: 46]. Аргументируя слабую (если она вообще существует) степень чувствительности у растений, он считает необходимым подчеркнуть, что даже знаменитое «чувствительное» растение на самом деле лишено этого свойства: «…и самая чувственница из сего не исключается» [там же]. Такой подход явно опирается на галлеровскую иерархию жизненных свойств: здесь чувствительность – прерогатива высших, более рациональных и духовных существ, тогда как раздражительность можно наблюдать даже у низших форм жизни.
Аналогичная проблема лежит в основе критики Мишо в адрес дидактической поэмы «Любовь растений» (1789), написанной дедом Чарльза Дарвина Эразмом Дарвином (1731–1802)152. Эссе Мишо, опубликованное в «Аглае» Шаликова в 1810 году, высмеивает английского поэта-врача за распространение понятий чувствительности, любви и секса на мир растительности.
Уже цветы влюбляются, разговаривают; они кончат тем, что станут писать друг к другу, и мы увидим романы в письмах, которые будут растрогивать нас несчастиями Резеды или Ландыша153.
Несмотря на шутливый тон, выпад французского писателя поднимает серьезную философскую проблему: Мишо на деле выступает против тезиса Дарвина об органическом единстве разума и природы, характерном для монистического мировоззрения XVIII века154. Француз прекрасно понимает, что идея о способности растений любить имеет долгую историю155. Однако его волнует значение этой идеи прежде всего для современности:
Мысль о поле растений не есть новая; но никогда не говорили о нем столько, как теперь, и можно угадать причину… К чему же хотят привести нас? К удостоверению, что материя мыслит, чувствует, и что человек, мыслящий и чувствующий, есть также материя156.
Такая «сентиментализация» природы в целом, полагает Мишо, угрожает представлению о человеке как об исключительном существе, наделенном бесплотной душой.
Подобное недоверие к физиологической природе чувствительности высвечивает общекультурный процесс, в ходе которого сентименталистский монизм, вера в тесный и физический союз тела и души, уступил место предромантическому, а затем романтическому дуализму157. Этот переходный момент в истории русской культуры показывает, что сентименталисты, которых обычно представляют как непосредственных и естественных предшественников романтиков, на самом деле оперировали совершенно иными философскими предпосылками и стремились установить связь между физической и духовной сферами, а не противопоставить их. Попытки сентименталистов укоренить проявления чувствительности в анатомических органах (научно, философски и риторически) демонстрируют их глубокую озабоченность телом как очагом и проводником утонченной чувствительности и указывают на их тесную связь с научным духом эпохи Просвещения158. Более того, сложная анатомия эмоций, разработанная Карамзиным, Радищевым и многими другими в их стремлении преодолеть бинарность «душа – тело» предвосхищает антидуалистический пафос «реалистов» 1840-х годов. Те, в свою очередь, (например, Герцен и Гончаров) обращались к древнему топосу любви как болезни и, в частности, к его диагностической традиции, чтобы более эффективно противостоять романтическому расколу между идеальной/духовной и материальной сферами.
Часть II
ДИАГНОСТИКА
Глава 2
Диагностика любви: традиция
Проблема диагностики любовной болезни начала подниматься в западной традиции довольно рано, хотя и не сразу приобрела полемический и философский оттенок, характерный для более позднего обращения к этой теме в русской литературе. Один из древнейших литературных примеров, в котором автор сталкивается с проблемой интерпретации недуга любви, – это история Антиоха и Стратоники, анализированная мной во введении. В «Деметрии» Плутарха, как мы помним, врач Антиоха Эрасистрат проводит своеобразный научный эксперимент, внимательно наблюдая за реакцией своего пациента, когда в комнату входил «красивый юноша или красивая женщина», обращая внимание на выражение лица молодого человека, а также следя «за теми членами тела, которые, по природе своей, особенно живо разделяют волнения души» [Плутарх 1961–1964, 3: 216]. Другими словами, врач следит не только за эмоциональными реакциями своего пациента, но и за чисто физическими, которые он, как медик, может соотнести с определенным психологическим состоянием. Определив объект любви, Эрасистрат сообщает новость Селевку, отцу Антиоха, который с радостью отдает свою жену ради спасения сына. Таким образом, в повествовании Плутарха состояние юноши относится в первую очередь к сфере медицины, и излечивается он благодаря компетентности врача, успешно распознавшего телесные симптомы пациента (даже если и делает это с помощью стихотворения Сапфо). И именно врач обеспечивает лечение, объясняя отцу пациента, что состояние юноши безнадежно, если только его страсть к Стратонике не будет консумирована.
В другом древнем тексте – романе Гелиодора «Эфиопика», написанном в III или конце IV века до нашей эры, – используется совершенно иной подход к аналогичной ситуации. Здесь влюбленная героиня, Хариклея, медленно чахнет, и ее отец созывает множество знаменитых врачей в отчаянной попытке найти лечение. Один за другим знаменитости не могут определить причины недуга девушки, пока один врач наконец не разрешает загадку. После тщательного физического обследования доктор объявляет убитому горем отцу, что в этом случае медицина бессильна, и объясняет, что этот пессимистический вывод обусловлен не тяжестью болезни Хариклеи, а внутренней природой недуга, которая выводит его за пределы компетенции медицины:
– Наша наука берется вылечивать телесные недуги, а не душевные – таковы ее предпосылки. Только в тех случаях, когда душа страждет вместе с больным телом, она и врачуется вместе с ним. У девушки действительно болезнь, но не телесная. Нет преизбытка ни одного из соков, не тяготит ее головная боль, не трясет лихорадка, не болит ни единая часть тела, не болит и все тело. Именно так, а не иначе обстоит с нею [Гелиодор 1965: 143].
Предсказуемый диагноз подтверждается наличием классических симптомов:
– Да это ясно и ребенку… здесь душа страждет, и явно болезнь эта – любовь. Не видишь разве, как опухли ее глаза, как рассеян ее взор, как бледно ее лицо? Хариклея не жалуется на внутреннюю боль, но настроение у нее мрачное, она произносит первые попавшиеся слова, ее мучит беспричинная бессонница, и она сразу похудела. Тебе надо поискать, Харикл, кто бы мог ее исцелить, – но это может сделать только желанный [там же].
Заключение врача прямо определяет болезнь любви не как телесную патологию, а как «страдание души». По этой самой причине он считает, что любовь находится за пределами его компетенции – что резко контрастирует с интерпретацией Плутарха, где медик, осознавая психогенную природу расстройства Антиоха, берет на себя и диагностику болезни, и соответствующее лечение. Врач в романе Гелиодора, напротив, неоднократно подчеркивает, что подобное состояние не требует профессионального вмешательства или каких-либо эзотерических, экспертных знаний: диагноз ясен «и ребенку» и должен был стать очевиден отцу пациентки уже давно. В отличие от своего коллеги из истории Плутарха, врач в «Эфиопике» отказывается определить объект любви Хариклеи; как и в случае с постановкой диагноза, лечение – тоже обязанность непрофессионала: «Тебе надо поискать, Харикл, кто бы мог ее исцелить, – но это может сделать только желанный». Более того, если у Плутарха телесные симптомы, включая частоту пульса, указывают на состояние пациента, а также на его причину, то у Гелиодора роль физического осмотра гораздо менее важна. Врач начинает обследование с проверки пульса Хариклеи, но некое диагностическое или семиотическое значение приписывает его действиям именно отец девушки: «…он старался, видимо, распознать ее болезнь по артерии, указывающей, думается мне, биение сердца», – объясняет Харикл [там же: 142–143]. Сам врач вообще не упоминает о пульсе в своей оценке состояния Хариклеи. Единственная польза от физического осмотра заключается в его отрицательном результате: отсутствие каких-либо признаков телесного расстройства указывает на «духовное» происхождение недуга.
В этих двух древних текстах диагносты применяют противоположные подходы к болезни любви; в последующей истории топоса традиция диагностики продолжит развиваться в основном по этим двум направлениям. Я называю эти подходы «медицинской» моделью (примером которой служит история Антиоха и Стратоники) и «психологической» (представленной у Гелиодора). «Психологический» подход относит любовную болезнь к немедицинской сфере, в то время как медицинская модель обычно в значительной степени опирается на опыт медицинской науки и авторитет врачевателя, а также на возможность «считать» состояние души через тело. В русских литературных примерах любви как болезни эти две диагностические парадигмы часто сталкиваются, и подобное столкновение позволяет русским авторам вступать в актуальные дебаты о взаимодействии тела и души и осмыслять статус науки как авторитета человеческой природы.
* * *В самом раннем примере любви как болезни в русской литературе, описанном в «Повести о Савве Грудцыне», уже поднимается проблема интерпретации этого состояния как телесного или духовного расстройства. После своего изгнания из дома Бажена Второго влюбленный Савва возвращается в гостиницу, в которой он остановился изначально по прибытии в город. Хозяин гостиницы обеспокоен физическим состоянием юноши и вызывает местного волхва для диагностики Саввы, «хотяще уведати от него какова скорбь приключися юноше оному» [Русская повесть XVII века 1954: 86]159. Волхв мгновенно выясняет причину состояния юноши: заглянув «в волшебный своя книги, сказа им истинну, яко „никоторыя скорби юноша не имать, в себе, токмо тужит по жене Бажена Втораго, яко в блудное смешение падеся с нею, ныне же отстужен бысть от нея и, по ней тужа, сокрушается“» [там же: 87]. Заключение волхва не только раскрывает причины болезни Саввы, но и, что более важно, представляет особый взгляд на любовь, который в принципе отрицает ее статус болезни: «сказа им истинну, яко „никоторыя скорби юноша не имать“». Таким образом, волхв отвергает медицинское толкование болезни Саввы, как и другой диагност в «Повести о Савве Грудцыне» – дьявол. «Враг рода человеческого» неоднократно называет состояние Саввы «скорбью», но в то же самое время, похоже, проводит различие между этим случаем и телесным недугом.




