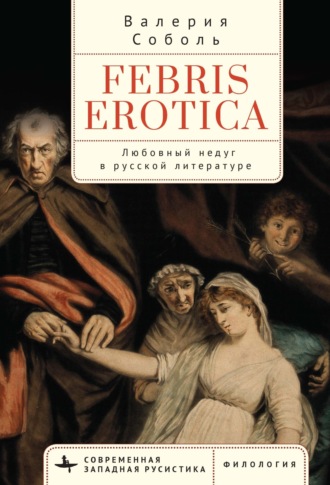
Полная версия
Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе
107
О кровопускании // СПВВ. 1792. Ч. 1. № 4. С. 25.
108
Радищев посещал лекции по медицине во время своего пребывания в Лейпцигском университете в 1767–1771 годах; см. [Макогоненко 1949: 20].
109
Опять же, эти идеи были широко распространены и на Западе. Дж. Руссо цитирует письмо миссис Доннеллан к Ричардсону, в котором она связывает его утонченную чувствительность как писателя с деликатной и болезненной физической конституцией: «К сожалению, те, кто способен писать деликатно, должны так же думать; те, кто может описать страдание, должны уметь его чувствовать; а поскольку душа и тело настолько едины, что влияют друг на друга, деликатность передается, и слишком часто можно встретить мягкость и нежность души в теле, столь же отмеченном этими качествами» (цит. по: [Rousseau 1976: 152]).
110
Мать Одиссея, беседуя с сыном в подземном мире, дает понять, что ее смерть была результатом эмоционального, а не физического разрушения: «Так же и я вот погибла, и час поразил меня смертный. / Но не в доме моем Артемида, стрелок дальнозоркий, / Нежной стрелою своей, подошедши, меня умертвила. / Не от болезни я также погибла, которая часто, / Силы людей истощая, из членов их дух изгоняет. / Нет, тоска по тебе, твой разум и мягкая кротость / Отняли сладостный дух у меня, Одиссей благородный!» (пер. В. В. Вересаева, 11.197–11.203).
111
«Всякому довольно известно, какую страсти имеют над нами силу и каким образом расстраивают наше тело» (О сильных и долговременных обмороках // СПВВ. 1794. Ч. 2. С. 203). Радищев в своем трактате также утверждает духовное происхождение многих телесных болезней: «Душа болит, душа страждет: от того болит и страждет тело» [Радищев 1938–1952, 2: 121]. Чтобы доказать это утверждение, автор, обычно неохотно использующий литературный материал в защиту своих научных и философских аргументов, приводит классический пример: историю Антиоха и Стратоники. Правомерность этого литературного примера для Радищева заключается именно в том, что ситуация, представленная в этой истории, не противоречит природным законам: «Если пример сей есть не что иное, как изобретение стихотворческое, то и тогда он истинен: ибо в пределах лежит естественности; есть не чрезмерный и не токмо возможный, но вероятный» [там же: 122].
112
Размышлении врача о любви // СПВВ. 1793. Ч. 2. № 32. С. 47.
113
Там же. С. 48. Прагматический подход к любовной страсти с акцентом на размеренности и рациональности можно найти в другом документе периода сентиментализма – пособии Гавриила Геракова «Совет молодым офицерам», рецензию на которое можно найти в журнале «Цветник». (1810. Ч. 6. № 5. С. 256–265). Автор призывает своих читателей не только избегать пьянства, лжи и азартных игр, но и сторониться любви или «любить со здравым рассудком для размножения рода человеческаго» (там же. С. 258).
114
О трясучках или перемежающихся лихорадках // СПВВ. 1794. Ч. 2. № 44–48. С. 165.
115
Там же. С. 164.
116
Воспитание женщин (из Сент-Пьера) // ПППВ. 1797. Ч. 13. С. 22.
117
Там же.
118
Там же. С. 21.
119
Первый урок любви, эклога; [пер.] с французского – Н. Ст-н [Николай Столыпин] // ПППВ. 1794. Ч. 3. С. 137.
120
Негативная репутация «отчаянной» любви а-ля Вертер сохраняется на протяжении всего XIX века. В «Анне Карениной» Толстой использует сентименталистское противопоставление желательного вида любви и вертеровской страсти. Мать Вронского встревожена развитием романа сына с Анной именно потому, что это «Вертеровская, отчаянная страсть» [Толстой 1928–1958, 18: 184]. Сам автор, однако, иронически меняет положительный полюс этого противопоставления: вместо возвышенной любви сентименталистов мадам Вронская мечтает о легкой светской связи.
121
Герои романов Михаила Сушкова «Российский Вертер» (не позднее 1792 года) и Клушина «Несчастный М-в» следуют сценарию Гёте и кончают жизнь самоубийством. Герой анонимного произведения «Несколько писем моего друга» (1794), также явно созданного по образцу романа Гёте, чахнет от «медленной, но разрушительной болезни» (ПППВ. 1794. Ч. 5. С. 384). Больше примеров и более подробный анализ русского влияния этих двух западных романов см. в [Кочеткова 1994: 167–184].
122
Полный текст рецензии: Цветник. 1810. Т. 5. С. 231–251.
123
Цветник. 1810. Ч. 5. № 2. С. 242.
124
Там же. С. 243.
125
Там же. С. 244.
126
Этот тип любви как болезни подвергнется переосмыслению и станет ассоциироваться с туберкулезом в XIX веке.
127
Следует отметить, что в XVIII веке меланхолия трактовалась настолько широко, что некоторые ее описания также включали горячку, как, например, в статье Екатерины Великой, опубликованной во «Всякой всячине» (1769. № 149. С. 404–405). Но более традиционная интерпретация любовной меланхолии связывала это состояние, как мы видели, с черной желчью (а не кровью), сухостью, холодом и всепоглощающей печалью, медленно истощающей тело.
128
В сентименталистской и, позднее, романтической литературе горячка не всегда используется непосредственно как форма любовной тоски, но часто как состояние, сопровождающее другие сильные эмоциональные потрясения – горе, вызванное смертью возлюбленного или возлюбленной, разлука с объектом любви и т. д. Однако, поскольку в более широком смысле эти состояния вызваны страстной любовью, которая не могла быть удовлетворена, я включаю эти случаи в свой анализ.
129
Хотя меланхолия теряет свою популярность в литературе в качестве клинической формы любви как болезни, она остается на русской культурной сцене как психологическая предрасположенность, психиатрическое состояние или философская позиция. См. реконструкцию культурной истории меланхолии в XVIII – начале XIX века и детальный анализ ее различных типов и культурных «лиц» И. Ю. Виницким [Виницкий 1995; Виницкий 1997: 107–289].
130
Тем не менее традиционно меланхолия как состояние, ассоциируемое с художественным гением или стремлением к знаниям, была связана с мужественностью. Краткий анализ гендерных моделей, связанных с меланхолией и другими родственными психическими расстройствами, см. в [Radden 2000: 39–44].
131
Случай Нины, на самом деле, сложнее. Со временем врач обнаруживает у нее «повреждение в легком», от которого она умирает. Ее диагноз, по-видимому, представляет собой сочетание лихорадки и чахотки.
132
О лихорадках вообще (Сочинение Аглинского врача) // СПВВ. 1794. Ч. 2. № 41. С. 118.
133
Термин «тоска» охватывал целый ряд эмоциональных состояний, среди которых печаль, тревога, страх, скука, скорбь, а в северных русских диалектах – даже физическая болезнь [Даль 1880–1882, 4: 432].
134
Fordyce G. Five Dissertations on Fever. Boston, 1815. P. 15–16. Цит. по: [Ward 2003: 96].
135
О лихорадках вообще (Сочинение Аглинского врача) // СПВВ. 1794. Ч. 2. № 41. С. 117. Русскоязычная и переводная проза той эпохи поддерживает и часто прямо озвучивает идею о том, что причины болезни могут лежать в духовной сфере. Одна сентиментальная героиня, брошенная своим возлюбленным, признается: «Внутреннее мое страдание произвело сильную горячку, опасную и долговременную». Это утверждение представляет болезнь как буквально развивающуюся изнутри наружу, от духовных причин к физическим симптомам (Валерия. Итальянская повесть / Из Флориановых «Nouvelles Nouvelles» // Московский журнал. 1792. Ч. 7. Кн. 3. С. 303).
136
Manningham R. The Symptoms, Nature, Causes, and Cure of the Febricula, or Little Fever: Commonly Called the Nervous or Hysteric Fever; the Fever on the Spirits; Vapours, Hypo, or Spleen. London, 1746. P. VI (цит. по: [Ward 2003: 97]).
137
О трясучках или перемежающихся лихорадках // СПВВ. 1794. Ч. 2. № 44–48. С. 149.
138
«Еще легчайшее средство освободиться от лихорадки состоит в том, чтоб стараться ее забыть… Если в таком положении больного нечаянно испугать, то наверно лишится он своей лихорадки» (там же. С. 152).
139
В «Бедной Маше» А. Е. Измайлова дается одно из самых кровавых художественных описаний этой терапии.
140
Советский ученый П. А. Орлов, редактор и составитель антологии русской сентиментальной повести, оспаривает эту точку зрения и утверждает, что «Евгений и Юлия» отражает отход Карамзина от масонской мистики к идеалам сентиментализма и Просвещения [Русская сентиментальная повесть 1979: 12–13]. Однако масонские/мистические элементы повести трудно игнорировать. Изображение смерти героя содержит ряд мистических мотивов: спор Евгения с дьяволом в бреду, его смерть на девятый день, видение матери о вознесении души Евгения на небо и т. д.
141
Образ огня также перекликается с масонской символикой (что подтверждается инфернальными мотивами бреда героя). Такая возможность, однако, не противоречит тому факту, что эта образность является частью патологии лихорадки и поэтому может рассматриваться и с медицинской точки зрения.
142
Гитта Хаммарберг приходит к аналогичному выводу, анализируя эту историю с точки зрения жанра и рассматривая ее развитие как переход от идиллии к сентиментальной «трагической» повести: «В „Евгении и Юлии“ трагедия, как это ни парадоксально, является результатом положительных качеств героев. Чрезвычайное счастье оказывается слишком невыносимым для высокоразвитой „тонкой“ чувствительности Евгения, и идиллия разрушается изнутри, свойствами, присущими идиллической концепции» [Hammarberg 1991: 137–138].
143
Как заметил Вертер: «Человеческой природе положен определенный предел. <…> Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет» [Гёте 2001: 66].
144
Ламетри был знаком с понятием раздражительности, благодаря догаллеровским исследованиям этого свойства Фрэнсисом Глиссоном; см. [Меркулов 1981: 62].
145
Вила также интерпретирует выбор Ламетри раздражительности вместо чувствительности как «стратегический»: «Из двух реактивных свойств, которые Галлер выделил в теле, только раздражительность была полностью телесной» [Vila 1998: 26].
146
Подробнее о споре Уитта с Галлером см. в [French 1969: chap. 6].
147
О чувствительности и добродушии // Цветник. 1809. Ч. 2. № 6. С. 323.
148
Там же. С. 323–324.
149
Там же. С. 324. Не совсем понятно, кого автор имеет в виду под «оракулами последняго века» в отличие от «мудрейших из мудрецов нашего времени». Мы не знаем, был ли оригинал статьи написан в конце XVIII или в начале XIX века, но последнее более вероятно; в этом случае «оракулы последняго века» – философы и ученые-сенсуалисты XVIII столетия.
150
Чувствительность сердца (фр.). См. [Кочеткова 1994: 18].
151
О чувствительности и добродушии // Цветник. 1809. Ч. 2. № 6. С. 323.
152
В журнале не указано имя автора, но, скорее всего, это Андре Мишо (1746–1802), французский ботаник и исследователь. Также это мог быть его сын, Франсуа Андре Мишо (1770–1850), также ботаник. Однако, поскольку поэма Дарвина была опубликована в 1789 году, на нее скорее откликнулся отец, чем его 19-летний сын. Французский историк Жозеф-Франсуа Мишо (1767–1839) – менее правдоподобный автор этой статьи, чем два ботаника.
153
Мишо. О любви растений // Аглая. 1810. Ч. 11. Кн. 3. С. 32.
154
Морин Макнил анализирует стремление Дарвина объединить науку и литературу, а также философский и социальный контекст такой попытки. См. ее эссе «The Scientific Muse: The Poetry of Erasmus Darwin» в [Jordanova 1986: 156–203].
155
Р. Бертон в своей «Анатомии меланхолии» приводит многочисленные анекдоты о влюбленных растениях и, в частности, о влюбленных пальмах, «готовых умереть и зачахнуть» [Burton 2001, 3: 43].
156
Мишо. О любви растений // Аглая. 1810. Ч. 11. Кн. 3. С. 32.
157
Вила упоминает об этом переходе во введении к своей книге о чувствительности, но не развивает данное наблюдение: «Чувствительность в том смысле, который придавало ей Просвещение, не исчезла в течение XIX века; скорее, она распалась на ряд дискретных наследий и уступила свое ранее неоспоримое первенство таким новым понятиям, как volonté, vie de relation и обновленный дуализм романтического спиритуализма» [Vila 1998: 10]. Однако некоторые романтики (особенно в Англии и Германии) стремились преодолеть дуализм не менее настойчиво, чем их современники, русские сентименталисты. О поисках романтиками единства см. в [Abrams 1971: esp. 179–183]. Алан Ричардсон в своем глубоком исследовании указывает на озабоченность британских романтиков единством тела и души и напоминает о слишком часто игнорируемом «антидуалистическом, материалистическом регистре в романтической литературе» [Richardson 2001: 36]. Этот «регистр», будучи заметным в русском сентиментализме, как мы видели, был менее влиятельным в русской романтической литературе, которая (за исключением метафизической поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета и прозы В. Ф. Одоевского) унаследовала в основном «байронический» вариант западного романтизма. В любом случае, как будет показано в последующих главах, русская антиромантическая кампания 1840-х годов сосредоточилась прежде всего на дуализме как определяющей черте романтической чувствительности.
158
Исследователи отмечают важность идей Просвещения для русского сентиментализма. Информативный обзор см. в [Кочеткова 1994: 24–74]. Однако в таких анализах, включая исследование Кочетковой, роль науки в восприятии сентиментализмом идей Просвещения обычно не рассматривается.
159
Слово «скорбь» в древнерусском языке также означало физическую боль. Более того, в XVII веке оно широко использовалось для обозначения физической болезни. См. [Срезневский 1890–1912, 3: 399–402; Словарь русского языка XI–XVII 1975–2015, 24: 238–239]. Царь Михаил Федорович, по свидетельству современника, «скорбел ножками» [Пресняков 1990: 27].
160
Это лингвистическое различие уже было проведено Стерном: дядя Тоби принимает свой волдырь за знак любовной страсти, потому что не видит различия между физической раной и метафорой раны любви (том 8, главы 26–32). Рассказчик Стерна подчеркивает сходство (но не идентичность) этих двух недугов: «при самых сильных обострениях боли в своей ране [то есть Любви] (как и в то время, когда его мучила рана в паху) он ни разу не обронил ни одного раздражительного или недовольного слова» [Стерн 1968: 484].
161
Другой пример романтического разграничения между любовью и собственно болезнью можно найти в письме Джона Китса от 1 ноября 1820 года: «Если бы у меня оставалась возможность выздороветь [от туберкулеза], эта страсть меня все равно бы доконала» [Китс 2011: 453]. Здесь болезнь и страстная любовь рассматриваются как взаимозаменяемые (в том смысле, что они производят аналогичный эффект), но не идентичные. На этот комментарий Китса мое внимание обратила Сьюзен Сонтаг в своей книге «Болезнь как метафора» [Сонтаг 2016: 23].
162
В отличие от многих других исследователей, я не использую термины «сентиментальный» и «предромантический» как взаимозаменяемые, поскольку, как я уже пояснила в предыдущей главе, рассматриваю сентименталистский подход к эмоциям и взаимодействию между душой и телом как отличный от романтизма, по крайней мере в русском контексте. Термин «предромантический» я оставляю для тех произведений или литературных приемов конца XVIII – начала XIX века, которые предвосхитили романтический раскол между телесной и духовной сферами.
163
O. Б. Кафанова приписывает этот перевод Карамзину [Кафанова 1989: 319–337]. Более подробный анализ переводов Карамзиным Мармонтеля см. в [Кафанова 1979: 157–176].
164
Мармонтель [Ж.-Ф.]. Вечера // Московский журнал. 1792. Ч. 5. Кн. 1. С. 113.




