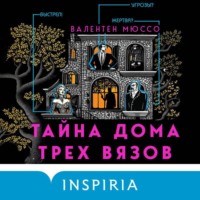Полная версия
Безмолвная ярость
Целый час я подписываю книги и болтаю с людьми. Некоторые представители богемы знали моего отца в шестидесятые, а некоторые – и в пятидесятые годы. Рассказывают мне истории. Неизвестно, реальны они или приукрашены временем, как многие мои собственные воспоминания. Незнакомая женщина лет шестидесяти с озорными глазами за очками в черепаховой оправе повествует мне о поездке с Йозефом и французской делегацией в абхазский совхоз. Она описывает экспериментальные теплицы, поля томатов, скрещенных с перцами. Сцена чуть сюрреалистична, но я слушаю и вежливо киваю. Я никогда не понимал, как мой отец, независимый пессимист, почти мизантроп, мог искренне верить в коммунистическую утопию. Его фотографии Советского Союза 1950-х годов кажутся мне самыми постановочными.
– Назовете любимую фотографию вашего отца? – спрашивает женщина, когда я протягиваю ей подписанную книгу.
Я притворяюсь, что задумался, хотя сотни раз отвечал на этот вопрос.
– Он бы сказал вам: «Та, которую я сделаю завтра».
Она хихикает над остротой, которую я позаимствовал у Имоджен Каннингем, и благодарит меня за автограф.
Остаток вечера ускользает от меня. Я долго беседую с журналистом, но стоящий рядом Матье чувствует, что я отвечаю на вопросы механически, подписываю еще несколько книг опоздавшим и прохаживаюсь среди гостей с застывшей на губах улыбкой.
Почти неосознанно возвращаюсь к фотографии, сделанной в мельничном парке Сент-Арну у реки. На ней запечатлены отец, мать, Камиль, тетя Мод и я. Единственный кадр, где мы все вместе. Наши лица размыты, как будто в расфокусе. Я всегда считал, что отец использовал автоспуск, но теперь не так в этом уверен. Может, кто-то другой – но кто? – сделал это фото, которому здесь не место. В голове мелькает смутное впечатление. Как и фотоклише «советского периода», снимок кажется мне надуманным, чуть ли не безвкусным. Словно статистов попросили сыграть образцовую семью. Стоя в толпе перед лицами моей семьи, я вдруг ощущаю себя ужасно одиноким.
Говорят, что предчувствие предупреждает нас о несчастье, которое вот-вот произойдет. Но я ничего не чувствую. Совсем ничего.
2
Сейчас почти два ночи. Я наконец покидаю галерею и отправляюсь домой, в квартиру на улице Якоба в 6-м округе. Меня слегка ведет, хотя за весь вечер выпито не больше двух бокалов шампанского, и я решаю пройтись, подышать свежим воздухом и отвлечься.
Я не включаю свет – гостиная купается в неоновой синеве отеля напротив. Именно здесь мы с Джульеттой жили, когда вернулись из США. По крайней мере, нам хватило ума не покупать квартиру, а остаться арендаторами. Когда мы расстались, я предложил ей оставить квартиру за собой, но она отказалась, убежденная, что страницу нельзя перевернуть наполовину… Никогда. А я остался. Может, из мазохизма или в тщетной надежде, что мы когда-нибудь снова будем вместе. Тогда я еще верил, что прошлое можно починить, как старую сломанную игрушку.
Я знаю, что не смогу уснуть, несмотря на усталость. В полумраке ищу телефон и нахожу его разряженным на столе в кухне. Приоткрываю окно и закуриваю сигарету. Над крышами на фоне неба чернеет шпиль церкви Сен-Жермен. По лесам на доме напротив пробирается кошка.
Я не могу перестать думать о Камиле. Вдруг захотелось позвонить ему, несмотря на поздний час, письмо его адвоката и все, что между нами произошло, хотя я знаю, что мне будет нечего сказать ему. Слова похоронены где-то внутри меня, в замурованном склепе. Как могли наши отношения так испортиться? Я помню время, когда мы хорошо ладили, несмотря на различия в характерах: он – солнечный экстраверт, я – сдержанный молчун…
После смерти отца Камиль прожил с нами год, а потом переехал к нашей тете Мод на Лазурный Берег. Подростком он пристрастился к наркотикам, но не упал в них, как в бездну. Все происходило незаметно для окружающих, в первую очередь для меня: несколько «косяков» в выходные или праздники, потом ежедневное потребление и первые таблетки экстази. В восемнадцать лет он познакомился со своим постоянным дилером, а вместе с ним – с кокаином и спидами. Если по той или иной причине не удавалось вовремя «дозаправиться», он растирал и нюхал атаракс или зопиклон из аптечки Мод, чтобы поддержать себя. Так продолжается двадцать пять лет; периоды ремиссии сменяются неумолимыми рецидивами.
Между курсами лечения мой брат начал погружаться в паранойю. Я бы не смог проследить точную хронологию событий. Иногда ему казалось, что за ним шпионят, подслушивают по телефону, а в один прекрасный день он убедил себя, что часть отцовского наследства кто-то присвоил. Мало того, что мой отец очень хорошо зарабатывал, после смерти рейтинг его фоторабот взлетел до небес. Но основной капитал семьи – невероятная коллекция, которую Йозеф Кирхер собирал всю жизнь, в основном «по дружбе». Я вырос в окружении оригинальных гравюр Мана Рэя[4] и Брассая[5], полотен Дюбюффе[6], Фонтаны[7] и Моранди[8], считая, что так живут и все мои ровесники. После смерти отца мать обнаружила, что около двадцати полотен и предметов антикварной мебели хранятся в здании Общества сохранения произведений искусства.
Половина коллекции пошла на уплату «натурой» налога на наследство, но со временем Камилю пришло в голову, что некоторые работы, висевшие на мельнице, были спрятаны и украдены. Время от времени нам приходили письма с детскими угрозами судебного иска, но все они оставались без ответа. Психическое состояние спровоцировало и его последнюю атаку на выставку и публикацию книги. Я знаю, что деньги тут ни при чем – как и у меня, у Камиля их хватит на две, а может быть, и три беззаботно-безработные жизни. Нелепые обвинения – выражение его бессильного гнева, который не на кого выплеснуть.
Что было бы, останься Камиль с нами? Я часто задаю себе этот вопрос и снова и снова поражаюсь неопределенности, окружавшей тот период моей жизни. Как могла моя мать отпустить Камиля жить с Мод, ведь она вырастила его как собственного сына? И как это возможно, что за все эти годы я ни разу не заговорил с ней об этом? Думаю, она не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы продолжать растить двух детей теперь уже одной. В глубине души я уверен, что по-настоящему Нина любила меня только в детстве, когда я был маленьким и послушным. Подрастая, я чувствовал, что становлюсь для нее чем-то вроде громоздкой вещи, которую не хочется держать при себе постоянно. Во время каникул все было хорошо, я мог уехать из дома; бо́льшую часть лета проводил у Мод в Приморских Альпах, а во время коротких каникул ездил в лагерь или к скаутам. В остальное время Нина казалась отсутствующей, далекой, слишком красивой молодой женщиной, чья жизнь так и не распустилась, как бутон, прихваченный морозом.
Я тушу сигарету в чашке, беру пиво из холодильника, делаю глоток и иду раздеваться в спальню. Нахожу зарядное устройство возле кровати и подключаю телефон. В ванной снимаю контактные линзы, чищу зубы и смотрю в зеркало на свое осунувшееся и слишком бледное лицо. Тело ломит. Неужели я заболел?
Через несколько минут подает голос мобильник, у меня есть непрочитанные сообщения. На экране появляются три злобных «депеши» от Матье: «Где-ты-есть-Господи?» Улыбаюсь впервые за вечер, но тут же снова впадаю в тревогу. В конце вчерашнего дня было два звонка с одного неизвестного номера. Человек, который пытался связаться со мной, оставил двухминутное сообщение. Слушаю его, сидя на краю кровати. Понимаю каждое слово, но вместе все они кажутся бессмысленными, как головоломка, последняя часть которой не раскрывает рисунок на коробке. Я ошеломлен, окаменел и не в силах шевельнуться.
Это полицейский. Он быстро, холодным тоном сообщает мне, что моя мать пыталась убить человека.
3
Я прослушиваю сообщение три раза, надеясь, что это розыгрыш или недоразумение, что найдется объяснение, которое положит конец этому безумию. Я не знаю, что делать. Звонить полицейскому не могу – он сообщил мне, что если я не прослушаю его сообщение в ближайшее время, то не смогу связаться с ним до следующего утра.
Я пытаюсь уговорить себя, что это, должно быть, несчастный случай, но тот человек говорил о «покушении на убийство». Я слабо разбираюсь в юридических терминах, но точно знаю, что это выражение предполагает преднамеренность. Почти машинально выбираю мамин номер в «Избранном». Она не отвечает. «Вернись на землю, Тео: ее только что арестовали за попытку кого-то убить».
В растерянности я звоню Матье, и он тут же снимает трубку. Судя по его голосу, с тех пор как мы расстались, он продолжал пить. Я бормочу несколько слов (которые и сам не понимаю), пытаясь дословно передать, что сказал полицейский, но он прерывает меня:
– Подожди, подожди! О чем ты говоришь, Тео? Что это за история без начала и конца? Твоя мать кого-то убила?
Он почти кричит в трубку. Я провожу рукой по лбу; у меня, кажется, жар. Сердце бьется неестественно быстро.
– Нет. Она пыталась убить человека… Сегодня днем.
– Где это произошло?
– В отеле недалеко от Авиньона, где она планировала остановиться на несколько дней.
– Я думал, она у твоей тети.
– Нет, мама должна была присоединиться к ней позже, в Антибе.
– Хочешь сказать, что Нина намеренно покушалась на человека? По собственной воле?
Он так педалирует последний вопрос, что тот всплывает у меня в голове, как заголовок сенсации на первой полосе.
– Да.
– Дьявольщина! Кто он?
– Понятия не имею, этого полицейский не сказал. Кажется, она вроде пришла к нему в номер и напала на него с ножом…
– С ножом? Твоя мать хотела кого-то заколоть ножом?
– Именно так.
– В каком он состоянии? Серьезно ранен?
– Этого я тоже не знаю.
– Свидетели были? Может, все-таки… недоразумение?
На этот раз я повышаю голос:
– Нет, это не гребаное недоразумение! Копы не сомневаются, что это сделала моя мать!
Матье молчит, он тоже потрясен.
– Что нужно делать? – спрашиваю я.
– Где она сейчас? В комиссариате?
– Нет, ее госпитализировали.
– Она тоже ранена?
– «Ранена» – не то слово, но, насколько я понимаю, психологически она была не в том состоянии, чтобы везти ее в полицию.
– Знаешь, в какой она больнице?
– Да, полицейский сказал мне адрес.
– Ее уже допрашивали? Взяли под стражу?
– Не знаю, Матье. Завязывай уже с вопросами!
– Ладно. Я не думаю, что полиция стала бы тебя оповещать, если только об этом не попросила твоя мать… А если она не в состоянии говорить, сомневаюсь, что ее арестовали. Может, так даже лучше… Она не должна ничего говорить, пока рядом не будет адвоката. Ты меня слышишь?
В моей голове все перемешалось. Я уже не могу следить за ходом разговора.
– Да, я тебя слышу.
– Хочешь, я приеду к тебе? Мы поговорим спокойно, и ты дашь мне прослушать это сообщение.
– Нет, это лишнее. Мне нужно сделать несколько звонков…
– Сейчас два часа ночи, Тео! Кому ты собираешься звонить в такой час?
– Я не знаю… В больницу… Мне просто нужно что-то делать.
– Подожди, подожди! Ты не можешь…
– Матье, спасибо за помощь, но, думаю, я справлюсь. Мне просто нужно было услышать тебя. Не волнуйся, все наладится.
Я лгу и ему, и себе. Нет, все налаживается только по взмаху волшебной палочки. Матье прав: моей матери как можно скорее нужен адвокат. Нужно связаться с Лашомом, который занимается делами нашей семьи более десяти лет. Он специализируется на защите прав на произведения искусства, но я уверен, что очень скоро сможет найти мне кого-нибудь компетентного в уголовных делах. Я оставляю мэтру на автоответчике длинное сообщение, в котором подробно объясняю, что случилось.
Просидев некоторое время на кровати, я прилагаю усилия, чтобы выйти из оцепенения. Варю себе кофе, ищу в интернете телефон больницы, набираю дважды, но никто не отвечает. Попробую позже.
Моя первая идея – заказать билет на TGV до Авиньона. Смотрю расписание – первый поезд отправляется в 7:30 утра; значит, я смогу быть на месте около 11 утра. Но знаю, что ночью не сомкну глаз и не хочу метаться, как зверь в клетке. Сверяюсь с навигатором: если я не буду слишком щепетилен к ограничениям скорости, могу пройти дорогу за шесть часов. Я долго не раздумываю. В любом случае, что мне делать в этой квартире до рассвета?
В спальне быстро набиваю сумку вещами на два-три дня, хотя я понятия не имею, сколько продлится поездка. В доме, где я живу, нет подземной парковки, и уже несколько лет я снимаю втридорога помещение в двухстах метрах от дома, хотя на машине почти не езжу. С Джульеттой мы часто ездили на выходные или в отпуск, но эти дни прошли.
Было 2:30 ночи, когда я выехал с автостоянки на углу улиц Жакоб и Святых Отцов. Я теперь так редко бываю за рулем, что с трудом восстанавливаю рефлексы. Улицы почти безлюдны. Одиночество обволакивает мое тело, как вторая кожа. Я еду через юг Парижа. С кольцевой дороги съезжаю на автомагистраль А6, потом на шоссе Дю Солей[9]: мне кажется, что название автомагистрали, учитывая обстоятельства, никогда не звучало так неуместно.
4
В голове постоянно мечется один и тот же образ: моя мать, размахивая ножом, бросается на мужчину без возраста с размытыми чертами лица. Через мгновение я вижу ее – изможденную, с окровавленными руками и лицом. Сцена из ночного кошмара. Может быть, я в конце концов проснусь…
Проходят часы. Через четыреста километров, между Маконом и Лионом, я заезжаю на стоянку, чтобы передохнуть и заправиться. В магазине перед колонками людей больше, чем я мог себе представить. Куда едут все эти люди в такой час? Я не думаю, что кто-то из них находится здесь ради чистого удовольствия. Покупаю кофе в автомате, пью его под непрерывный шум автострады и выкуриваю две сигареты подряд, прислонившись к капоту машины. Я давно на пределе усталости.
Остальной маршрут куда сложнее. У меня болят спина и шея, поэтому приходится делать частые перерывы на кофе. Я включаю радио, ищу новости, убежденный, что все они будут о моей матери и о покушении. Столкновения в Бейруте, последствия дела Кервьеля[10], объявленное поражение Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии… Про маму – тишина.
Около восьми часов мне перезванивает Лашом. Он бормочет, что только сейчас получил мое сообщение. Адвокат, обычно не проявляющий эмоций, сегодня будто не в себе. Я снова пересказываю ему все, что услышал от копа, одновременно пытаясь вернуть нас обоих к реальности. Он без колебаний заявляет мне, что знает подходящего человека, который способен помочь моей матери: Эрик Гез.
Имя острое, как тесак. Гез – адвокат, гипермедийная фигура, почетный участник всех телешоу, где он блистает отточенностью формулировок. Гез – «любимая мозоль» судей; на его счету впечатляющее число оправдательных приговоров, за которые он получил прозвище «Оправдатель». Политики, замешанные в налоговых скандалах, рвут его на части, но он не реже защищает семьи жертв в уголовных делах об убийствах, изнасилованиях или похищениях.
Я реагирую мгновенно:
– Послушайте, жизнь моей семьи будет препарирована в СМИ. Гез слишком публичен и одиозен, судьи его ненавидят, он усугубит ситуацию…
– «Усугубит ситуацию?» Тео, Нина подозревается в убийстве. Нам нужен лучший из лучших, то есть Гез. Я знаю его много лет и могу связаться с ним напрямую. Уверен, он возьмет это дело.
– Что меня и пугает… Хотя у нас нет выбора.
– Нам нужен кто-то надежный, и очень быстро. Юрист, который «не упустит ни кусочка» и окажется на высоте положения.
Что толку колебаться – иного решения на данный момент нет.
– Хорошо, свяжитесь с ним.
Лашом объясняет мне, что адвокат может увидеться с клиентом и получить доступ к материалам дела через двадцать один час с момента задержания. Он подтверждает то, что сказал мне Матье: ничто не обязывало полицию сообщать мне о случившемся, и почему они решили это сделать, понять трудно. Лашом обещает перезвонить, как только поговорит с Гезом, и вешает трубку. Я отправляю сообщение Матье, чтобы успокоить его, а заодно убедить себя, что сделал лучший выбор.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Перевод с французского М. Кудинова.
2
Саронг – традиционная мужская и женская одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании. Это полоса цветной хлопчатобумажной ткани, которая обертывается вокруг пояса (или середины груди – у женщин) и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки.
3
«Ла Фемис» (фр. La Fémis) – Национальная школа изобразительных и звуковых профессий, ранее – Институт высших кинематографических исследований (IDHEC).
4
Ман Рэй (1890–1976) – французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер, творчество которого оказало огромное влияние на авангардное искусство всего XX века: от дадаизма и сюрреализма до абстрактной и коммерческой фотографии.
5
Брассай (наст. Дьюла Халас, 1899–1984) – венгерский и французский фотограф, художник и скульптор, один из представителей документальной и сюрреалистической фотографии.
6
Жан Дюбюффе (1901–1985) – французский художник и скульптор, основоположник так называемого ар брют – «грубого» или «сырого» искусства, принципиально близкого к любительской живописи детей, самоучек, душевнобольных, не признающего общепринятых эстетических норм и использующего любые подручные материалы.
7
Лучо Фонтана (1899–1968) – итальянский живописец, скульптор, теоретик, абстракционист и новатор. Самыми характерными для Фонтаны произведениями стали картины с прорезями и разрывами, которые принесли ему широкую известность. Впервые со времен К. Малевича картина была преобразована таким радикальным способом.
8
Джорджо Моранди (1890–1964) – итальянский живописец и график.
9
Солнечное (фр.).
10
В 2008 г. трейдер Ж. Кервьель в одночасье стал знаменитостью – он чуть не уничтожил один из крупнейших банков Европы «Сосьете женераль», нанеся ему фантастический ущерб в 5 млрд евро махинациями на рынке.